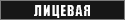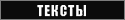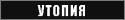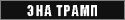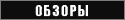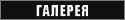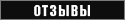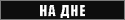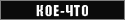Наивное путешествие,
|
|
Мы едем на поезде, едем.
Едем и едем. Нам нравится ездить на поезде, мы едем, едем и едем, и мимо нас всё проезжает. Проезжает пузатая тётенька, облака, кусты и деревья, одуванчик, старуха с корзиной, двое детишек и птичка. Все нам кепками машут вслед. Мы видим окно из окна, и мы видим, как в этом окне кто-то смотрит на нас, проезжая, и думает: "Вот, проезжают..." — и проезжает окно. Наш поезд летит по просторам, и мы достаем корзинки, вынимаем печенье, котлеты, бублики и пирожки. Мы вынимаем тарелки, штопор, ножи и вилки, рюмки хрустальные, чашки, курочку достаем. И мы угощаем друг друга. Наливаем бокалы и рюмки, произносим тосты за дам, поздравляя с тем, что прекрасны. Они тоже нас поздравляют. Переходя из вагона, в вагон, какой-то красивый мужчина улыбается нам, жмёт всем руку, обнимает всех женщин, целует, каждой женщине дарит цветок. Ах, какой приятный мужчина! Видно, он работает здесь. ...Мы проехали тысячи станций, и ещё, и ещё проезжаем... Но вот нам уже надоело проезжать всё мимо и мимо, и мы сказали: "Пора!" Пора! мы себе сказали, пора выходить на волю. Давненько, давненько пора. И мы пытаемся выйти. Мы очень стараемся выйти, мы сильно стараемся выйти, но у нас ничего не выходит, и станция проплывает, и мы снова пытаемся выйти. Но опять ничего не выходит. Мы смотрим, смотрим в окно, видим — станция отплывает, проплывает некое дерево и пожилой человек. Он повесил часы на дерево и глядит на часы в бинокль, и он тоже очень старается, крутит линзы и окуляры, протирает стекла платочком, но совсем ничего не видит, и бинокль здесь ни при чем. Видно, это не наша станция. И мы снова пытаемся выйти. Снова, снова пытаемся выйти. Вот, наверное, наша станция, сразу видно, что наша станция. Поднимаемся и выходим. Мы отлично выходим на станции, это наша прекрасная станция, мы гуляем по нашей станции, поздравляем друг друга: "Товарищи, как прекрасно, что мы добрались! Ах, какие здесь птички, товарищи, а какие, товарищи, кустики, а какие, товарищи, облачки — где ещё такое найдешь! Нет, не зря мы, товарищи, ехали. Мы приехали тика в тику. Нам, наверное, все завидуют. Только нам на них наплевать." В это время отходит поезд, на котором мы все приехали, он тихонько уходит со станции, потому что не нужен уже. И, используя силу ненужности, уползает за горизонт. Ах, друзья, мы повяжем бантики, на груди мы повесим брошечки, мы повяжем шнурочком талию — ах, друзья, давайте же петь. Петь о том, что ушло со станции, петь о том, что осталось на станции, петь о том, что будет на станции, когда песенку допоём. |
Нету силы терпеть — очень хочется петь,
И мы поём:
|
Поезд, поезд, ветер, ветер, небо, небо, едем, едем, скоро будет поворот. Славно ехать нам. Вперед! |
Но тут поднимается страшный ветер.
Он срывает двери с вокзала, вырывает окна — и уносит. Он уносит куда-то вокзал — куда? — вслед за поездом, видно нет здесь иных направлений.
Он уносит постройки вокзальные, и туалет улетает. Уносит кусты и траву. Улетают бантики все. Вслед за ними срываются урны.
Под конец пролетает — откуда он взялся? — какой-то огромный квадрат. Пролетает быстро над нами — невозможно его разглядеть — и с треском втыкается в горизонт.
|
Вот и всё. Тишина наступает. Почему-то никто не поёт. Мы стоим среди моря песка, только волны и волны кругом. Мы садимся на рельсы и плачем. Просто плачем и только всего. И мы плачем, Мария, мы плачем, наши слезы текут по рубашкам, по щекам сползают, по брюкам, по ботинкам и пиджакам. И в песок сползают, Мария. В ручейки собираются, в реки, и в песок уходят, Мария. И под морем песка, Мария, море слез, Мария, уже. |
Мы плачем так долго, что вся вода выходит из нас со слезами. Мы сидим на рельсе, совершенно сухие, похожие на сушеные тыквы, или, скорее, на стадо сушеных тутанхамонов.
Иногда прилетает какой-нибудь жук, и когда он ползёт по кому-нибудь из нас, звук получается такой, будто ногтем скребут по барабану.
Если посмотреть на нас из космоса, мы похожи на корявые бусинки, надетые на серебряную ниточку.
Конечно же, само собой разумеется, в этот момент появляется инопланетный космический корабль. Он, конечно, квадратной формы — без Малевича здесь не обошлось. Инопланетяне, поскрипывая серебряными суставами, подходят к краю и вглядываются в Землю; достают большую трубу и начинают оснащать её линзами.
Они собирают гидрометр.
Они достают целый мешок каких-то кнопок и оснащают трубу кнопками, обвязывают её ленточками проводов, и провода начинают развеваться на ветру. После этого двумя большими гайками они привинчивают к трубе пишущую машинку и вставляют в нее лист бумаги.
Я успеваю заметить, что бумага у них совершенно такая же, как у нас. Один инопланетянин садится в кресло, отчего кресло начинает кататься на колесиках, достает из кармана клетчатый платок (как! это же мой платок!), и взмахом платка подает сигнал остальным.
Остальные, скрипя и тихо матерясь, поднимают гидрометр и нацеливают его вниз, на песчаное плато, по которому — прекрасный ориентир! — тянется какая-то линия, с рядом точек на ней.
Гидрометр оживает. Сначала он говорит противным инопланетным голосом:
— На этой планете вода есть!
Потом начинает стучать машинка. Она выбивает какие-то цифры, цифры рядами выстраивается на листке. Я пытаюсь разглядеть их... нет, не получается, мне плохо видно с Земли.
И корабль скрывается за горизонтом — чуть левее того места, где воткнулся первый квадрат.
Поднимается лёгкий ветерок, он треплет складки одежды, заметает пыль под ногами, тихо посвистывает в ноздрях сидящих на рельсах фигур, и в этом свисте слышится пение:
|
Мы ехали, ехали, ехали... Ах, как нам нравилось ехать... Мы ехали, ехали, ехали... Как же нам нравилось ехать... |
Ветер катает черную шляпу по песку. Рядом лежит опрокинутая корзинка, из которой выпали два бутерброда и красивый пакетик с новыми колготками.
Подгоняемая ветром, катится папироса, суетливо подпрыгивая на шероховатой земле.
1988-1994
|
|
|