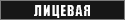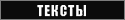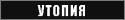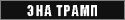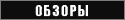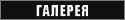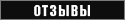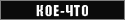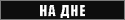| |
| Г. Маркузе ЭРОС И ЦИВИЛИЗАЦИЯ |
Часть II. ПО ТУ СТОРОНУ ПРИНЦИПА РЕАЛЬНОСТИ |
9. Эстетическое измерение
Очевидно, что эстетическое измерение не может сделать принцип реальности общезначимым. Как и воображение, которое является его конституирующей мыслительной способностью, мир эстетического по самой своей сущности «нереалистичен»: его свобода от принципа реальности достигается ценой бессилия перед действительностью. В жизни эстетические ценности могут служить для украшения, создания настроения или составлять хобби частного человека, но —жить с этими ценностями — привилегия гениев или печать декадентской богемы. Перед судом теоретического и практического разума, сформировавшего мир принципа производительности, существование эстетического не имеет оправдания. Однако мы постараемся показать, что такое понятие эстетики является результатом «культурной репрессии» содержания и истин, неудобоваримых для принципа производительности. Мы полагаем, что прояснение первоначального значения и функции эстетического поможет теоретическому преодолению этой репрессии. Для этого необходимо раскрыть внутреннюю связь между удовольствием, чувственностью, красотой, истиной, искусством и свободой — связь, отразившуюся в философской истории понятия эстетическое. Там этот термин обнимает мир свободы, который хранит истину чувств и примиряет «низшие» и «высшие» способности человека, чувственность и интеллект, удовольствие и разум. Ограничимся рассмотрением периода, в который определилось значения понятия эстетическое, второй половиной восемнадцатого века.
В философии Канта основной антагонизм субъекта и объекта отражен в дихотомии психических способностей: чувственность и интеллект (понимание), желание и познание, практический и теоретический разум*. Практический разум конституирует свободу, руководствуясь им же установленными нравственными законами для нравственных целей, а теоретический разум конституирует природу согласно законам причинности. Между миром природы и миром свободы пролегает непроницаемая граница: автономия субъекта не может вмешаться в законы причинности, а чувственные данные не могут положить предел автономии субъекта (так как иначе он не был бы свободным). И все-таки автономия субъекта должна как-то «воздействовать» на объективную действительность, а цели, устанавливаемые субъектом, должны быть реальными. Поэтому мир природы должен «подпадать» под законодательство свободы, и для их встречи требуется промежуточное измерение. Теоретический и практический разум должен быть опосредован третьей «способностью», которая осуществляет «переход» из царства природы в царство свободы и соединяет низменные и возвышенные способности, желание и знание*. Этой третьей способностью является способность суждения. Начальной дихотомии теперь предшествует трехчастное деление. В то время как теоретический разум (рассудок) создает a priori принципы для познания, а практический разум — для желания (воли), способность суждения связывает их посредством чувства боли и удовольствия. Если чувство сочетается с удовольствием, суждение становится эстетическим, а сферой его приложения становится искусство.
Таково в не совсем корректном сокращении классическое выведение Кантом эстетической функции в начале его «Критики способности суждения». Неясность изложения у него вызвана неразличением первоначального значения эстетического (относящееся к чувствам) с новыми коннотациями (относящимися к красоте, и в особенности к искусству), восторжествовавшее в период жизни самого Канта. И хотя его попытка ухватить невытесненное содержание задыхается в строгих границах, установленных его трансцендентальным методом, его концепция по-прежнему является наилучшим введением в эстетическое измерение.
В «Критике способности суждения» эстетическое измерение и соответствующее ему чувство удовольствия предстают не только как третье измерение и способность души, но как его центр, посредник, благодаря которому природа и необходимость приходят в согласие со свободой и автономией личности. Эстетическая функция здесь приобретает «символичность». Знаменитый 59-й параграф «Критики» озаглавлен «О красоте как символе нравственности». В кантовской системе нравственность — это царство свободы, в котором практический разум осуществляет себя согласно законам, им самим установленным. И поскольку красота интуитивно-воззрительно демонстрирует реальность свободы, она становится символом этого царства. Так как свобода возможна только как идея, не знающая никакого чувственно-воспринятого соответствия, такая демонстрация может быть только «непрямой», символической, per analogiam*. Далее мы постараемся прояснить основание для такой странной аналогии, которое в то же самое время помогало бы эстетической функции связывать «низкие» чувственные способности (Sinnlichkeit) с нравственностью. Но перед этим мы хотим напомнить контекст, заостривший проблему эстетического.
Наше определение специфически исторического характера утвердившегося принципа реальности привело к пересмотру фрейдовского представления о его общезначимости. Мы поставили ее под сомнение ввиду исторической возможности упразднения репрессивного контроля, налагаемого цивилизацией. Кажется, что достижения самой этой цивилизации привели к устареванию принципа производительности и архаизации репрессивного использования инстинктов. Но идея нерепрессивной цивилизации на основе достижений принципа ^производительности столкнулась с тем возражением, что освобождение инстинктов (и, как следствие, тотальное освобождение) угрожает взрывом самой цивилизации, так как последняя держится только отречением и трудом — иными словами, репрессивным использованием энергии инстинктов. Освобождение от этих принудительных ограничений обрекает человека на существование без труда и порядка, чреватое возвращением в природное состояние, и уничтожение культуры. Чтобы ответить на это возражение, мы напомнили некоторые архетипы воображения, которые в противоположность культурным героям репрессивной производительности символизировали творческую рецептивность. Эти архетипы предвосхищают осуществление человека и природы, но не путем господства и эксплуатации, а «через высвобождение внутренних либидозных сил. Затем мы поставили перед собой задачу «верифицировать» эти символы, т.е. показать их истинностную ценность как символов принципа реальности по ту сторону принципа производительности. Мы полагали, что содержанием образов Орфея и Нарцисса является эротическое примирение (союз) человека и природы в эстетическом подходе, где порядок — это красота, а труд — игра. Следующим шагом было устранение искажения эстетического подхода в искусственной атмосфере музея или богемы. С этой целью мы постарались целиком ухватить содержание эстетического измерения, проследив его философскую легитимацию. Мы обнаружили, что в философии Канта эстетическое измерение занимает центральное положение между чувственностью и нравственностью как двумя полюсами человеческого существования. И если это так, то эстетическое измерение должно основываться на принципах, значимых для обоих миров.
Основополагающий опыт этого измерения скорее чувственный, чем умозрительный; эстетическое восприятие существенно интуитивно, а не понятийно*. Природа чувственности «рецептивна», она познает, воспринимая воздействие данных объектов. Эстетическая функция занимает центральное положение в силу внутренней связи с чувственностью. Эстетическое восприятие сопровождается удовольствием*. Это удовольствие — результат восприятия чистой формы объекта независимо от его «материи» и его (внутренней или внешней) «цели». Объект, данный как чистая форма, обладает «красотой». Такую данность создает работа (или, точнее, игра) воображения. Взятое как воображение эстетическое восприятие означает чувственность и в то же время больше, чем чувственность («третья» основная способность): оно доставляет удовольствие и, следовательно, существенно субъективно, но поскольку это удовольствие вызвано чистой формой самого объекта, оно необходимо присуще всякому эстетическому восприятию — и всякому воспринимающему субъекту. Но несмотря на свой чувственный и, следовательно, рецептивный характер, эстетическое воображение продуктивно: путем свободного синтеза оно создает красоту. Действуя через эстетическое воображение, чувственность создает принципы, обладающие всеобщей значимостью для объективного порядка.
Этот порядок определяют две основные категории — «целесообразность без цели» и «законосообразность без закона»*. Извлеченные из кантовского контекста, они очерчивают сущность подлинно нерепрессивного порядка. Они определяют структуру, соответственно, красоты и свободы, и их общий характер заключается в удовлетворении человека и природы посредством свободной игры их раскрепощенных возможностей. Кант разрабатывает эти категории только для мыслительных процессов, но на его современников его теория оказала влияние, далеко выходящее за рамки его трансцендентальной философии. Через несколько лет после публикации «Критики способности суждения» Шиллер извлек из концепции Канта понятие новой формы цивилизации.
Для Канта «целесообразность без цели» — форма эстетического представления объекта. Любой объект (вещь или цветок, животное или человек) входит в представление и суждение очищенным от своей полезности, цели, которой он мог бы служить, а также перспективы своей «внутренней» финальности и завершенности. В эстетическом воображении объект представлен скорее свободным от подобных связей и свойств, в свободном самостоянии. Опыт, в котором объект «дан» таким образом, полностью отличается как от повседневного, так и от научного опыта; все связи между объектом и миром теоретического и практического разума прерываются или, точнее, приостанавливаются. Этот опыт, освобождающий объект для его «свободного» бытия, — работа свободной игры воображения*. Субъект и объект становятся свободными в новом смысле. В результате этой радикальной перемены отношения к бытию появляется новое качество удовольствия, вызываемого формой, в которой теперь обнаруживает себя объект. Его «чистая форма» предполагает «единство многообразия», согласование движений и связей, действующих по собственным законам, — чистое проявление его «вот-бытия», его существования. Это — проявление красоты. Воображение и познавательные понятия рассудка приходят в согласие, которое устанавливает гармонию мыслительных способностей как рождающий удовольствие отклик на свободную гармонию эстетического объекта. Строй красоты возникает из строя, управляющего игрой воображения. Этот двойной порядок согласуется с законами, но сами законы свободны: они не навязываются и не принуждают к достижению специфических целей; они — чистая форма самого существования. Эстетическая «законосообразность» связывает Природу и Свободу, Удовольствие и Нравственность. Эстетическое суждение есть в отношении чувства удовольствия или неудовольствия конститутивный принцип Спонтанность в действии познавательных способностей, согласованность которых содержит в себе основание этого удовольствия, делает упомянутое понятие пригодным в качестве посредствующего звена между областью понятия природы и областью понятия свободы в их следствиях, в то время эта спонтанность содействует восприимчивости души к моральному чувству*.
Для Канта эстетическое измерение опосредует чувства и интеллект с помощью «третьей» мыслительной способности, воображения. Более того, эстетическое измерение также опосредует природу и свободу. Это двойное опосредование вынуждено всепроникающим конфликтом между низшими и высшими способностями человека, порожденным прогрессом цивилизации — прогрессом, достигнутым путем подчинения чувственных способностей разуму и их репрессивного использования на социальные нужды. Таким образом, философское усилие найти опосредование между чувственностью и разумом в эстетическом измерении предстает как попытка примирения двух сфер человеческого существования, разорванных репрессивным принципом реальности. И поскольку функцию опосредования выполняет родственная чувственности эстетическая способность, эстетическое примирение ведет к усилению чувственности против тирании разума и, в конечном итоге, призывает к освобождению чувственности от репрессивного господства разума.
Естественно, что после того, как теория Канта превращает эстетическую функцию в центральную тему философии культуры, в русле такой теории формулируются принципы нерепрессивной цивилизации, в которой разум — чувствен, а чувственность рациональна. «Письма об эстетическом воспитании человека» Шиллера, написанные в значительной степени под влиянием «Критики способности суждения», посвящены ^вопросу преобразования цивилизации с помощью освободительной силы эстетической функции: последняя рассматривается как содержащая новый принцип реальности.
Повинуясь внутренней логике традиции западной мысли, Шиллер определил новый принцип реальности и соответствующий ему новый опыт как эстетический. Мы уже отмечали, что. этот термин первоначально обозначал «связанное с чувствами» и акцентировал познавательную функцию. Но под давлением рационализма познавательная функция чувственности постоянно недооценивалась. В соответствии с репрессивным пониманием разума решающая роль в познании была отведена «высшим», нечувственным мыслительным способностям; логика и метафизика поглотили эстетику. Чувственность как «низшая» и даже «самая низкая» способность должна была поставлять в лучшем случае только содержание, сырой материал для высших интеллектуальных способностей. Содержание и значимость эстетической функции были сведены на нет. Чувственность сохранила скромное философское достоинство в подчиненном эпистемологическом положении; те же ее процессы, которые сопротивлялись подгонке под рационалистическую эпистемологию (т.е. выходили за пределы пассивного восприятия данных), остались бездомными. Прежде всего среди этих бездомных ценностей оказались содержания воображения как свободной, творческой или репродуктивной интуиции объектов, не «данных» непосредственно, но представленных без их «присутствия*. В начале эстетики как науки о чувственности, соответствующей логике как науке о рассудке, познающем с помощью понятий, не существовало. Она появилась только в середине восемнадцатого столетия как новая философская дисциплина — теория прекрасного и искусства; основу современного употребления этого термина заложил Александр Баумгартен. Изменение значения «связанное с чувствами» на «связанное с красотой и искусством» имеет гораздо большую важность, чем просто академическая инновация.
Философская история термина «эстетическое» отражает репрессивную трактовку чувственных (и, следовательно, «телесных») познавательных процессов. Основание эстетики как независимой дисциплины предстает как противодействие репрессивной власти разума: усилия, направленные на утверждение центрального положения эстетической функции и установление ее как экзистенциальной категории, выводят на свет внутреннюю истину чувств как противовес их искажению под господством принципа реальности. Эстетическая дисциплина противопоставляет порядку разума — порядок чувственности. Введение этого понятия в философию культуры готовит почву для освобождения чувств, цель которого — не разрушение цивилизации, а ее упрочение и значительное расширение ее возможностей. Действуя через основополагающий импульс, а именно игровой импульс, эстетическая функция «в состоянии упразднить принуждение и дать человеку как моральную, так и физическую свободу». В ее власти привести чувства и влечения человека в гармонию с разумом, лишить «законы разума их моральной принудительности» и «примирить их с интересами чувств»*.
Могут возразить, что эта интерпретация, соединяющая философский термин чувственность (как познавательную мыслительную способность) с освобождением чувств, — не более чем игра с этимологической двусмысленностью: корень sens в слове sensousness (чувственность как связь с чувствами) уже не может служить обоснованием связи с sensuality (чувственность как жажда чувственных удовольствий). В немецком языке sensuousness и sensuality передаются одним и тем же термином: Sinnlichkeit. Он означает и удовлетворение инстинктов (в особенности сексуальных), и познавательные процессы чувственного восприятия и представления (ощущение — sensation). Это двойное означивание сохранено по сей день как повседневным, так и философским языком, и термин Sinnlichkeit как основа эстетики удерживает эту двусмысленность. В этом применении термин обозначает «низшие» («темные», «смешанные») познавательные способности человека плюс «чувство боли и удовольствия» — ощущения плюс влечения*. В «Письмах об эстетическом воспитании» Шиллера акцент сделан на импульсивном, инстинктуальном характере эстетической функции*. Это содержание доставляет основной материал для новой дисциплины — эстетики. Последняя задумана как «наука о чувственном познании» — «логика низших познавательных способностей»*. Эстетика — «сестра» и одновременно соперница логики. Для новой науки характерна оппозиция преобладанию разума: «...не разум, но чувственность (Sinnlichkeit) устанавливает эстетическую истинность или ложность. То, что чувственностью признано или может быть признано как истинное, эстетика также представляет как истинное, пусть даже разум и отвергает это как неистинное»*. Как говорит Кант в своих лекциях по антропологии: «... можно установить всеобщие законы чувственности (Sinnlichkeit), так же как можно установить всеобщие законы рассудка; т.е. существует наука о чувственности, а именно, эстетика, и наука о рассудке, а именно, логика»*. Содержание эстетики составляют принципы и истины чувственности, а «целью эстетики является совершенство чувственного познания. Это совершенство — красота»*. Так был сделан шаг, преобразовавший эстетику из науки о чувственности в науку об искусстве, а порядок чувственности в порядок искусства.
Этимологическая судьба основополагающего термина редко подвержена случайностям. Какие причины подтолкнули концептуальное развитие от sensuality к sensuousnes (чувственное познание) и к искусству (эстетика)?
Чувственность как опосредующее понятие придает чувствам значение источников и органов познания. Но познание — не исключительная и даже не первичная функция чувств. Их познавательная функция смешивается с их потребительской функцией (sensuality); они эротичны и управляемы принципом удовольствия. Из этой смеси познавательных и потребительских функций вытекает смешанный, зависимый, пассивный характер чувственного познания, создающий затруднения для принципа реальности, который стремится подчинить его и организовать с помощью понятийной деятельности интеллекта, разума. Поскольку философия в значительной степени восприняла законы и ценности принципа реальности, порыв чувственности к свободе от господства разума не нашел места в философии; значительно видоизмененный, он получил прибежище в теории искусства. Истина искусства заключается в освобождении чувственности путем ее примирения с разумом: это центральное понятие классической идеалистической эстетики. В искусстве мысль получает воплощение в художественно прекрасном и материя определяется ею не внешним образом, а существует свободно, так как природное, чувственное, переживаемое и. т. д. имеет в самом себе меру, цель и согласованность. Как созерцание и чувство возведены в духовную всеобщность, так и мысль не только отказалась от своей вражды к природе, но и стала радостной в ней; чувство, удовольствие и наслаждение получают оправдание и освящение, так что природа и свобода, чувственность и понятие одновременно находят свое оправдание и удовлетворение*.
Искусство бросает вызов господствующему принципу разума: утверждая закон чувственности, оно противопоставляет логике подавления табуированную логику удовлетворения. Через сублимированную эстетическую форму оказывает свое действие несублимированное содержание — интимная связь искусства с принципом удовольствия*. Исследование эротических корней искусства играет важную роль в психоанализе; однако их работа и функция видны скорее в искусстве, чем в художнике. Эстетическая форма — это чувственная форма, создаваемая порядком (order) чувственности. И если «совершенство» чувственного познания определяется как красота, то это определение удерживает внутреннюю связь с инстинктивным удовлетворением, и эстетическое удовольствие по-прежнему остается удовольствием. Но источник чувственного удовольствия (sensual origin) оказывается «подавленным», и удовлетворение возникает от чистой формы объекта. «Свободная игра» творческого воображения санкционирует непонятийную истину чувств как эстетическую ценность и делает возможной свободу от принципа реальности. Создаются условия для признания реальности, существующей по иным нормам. Однако, поскольку эта другая, «свободная» реальность принадлежит сфере искусства, а ее опыт — эстетическому подходу, ее существование ни к чему не обязывает и не способно подчинить себе обыденное человеческое существование: она «нереальна».
Попытка Шиллера преодолеть сублимированность эстетической функции отталкивается от кантовской позиции: только благодаря тому, что воображение занимает центральное положение среди способностей души, и благодаря тому, что красота является «необходимым условием гуманности»*, эстетическая функция может играть решающую роль в преобразовании цивилизации. Во времена Шиллера такая необходимость казалась очевидной; Гердер и Шиллер, Гегель и Новалис разрабатывали концепцию отчуждения почти в одних и тех же понятиях. Но с формированием индустриального общества, определяемым принципом производительности, его внутренняя негативность проникает и в философский анализ:
...наслаждение отделилось от работы, средство от цели, усилие от награды. Вечно прикованный к отдельному малому обломку целого, человек сам становится обломком; слыша вечно однообразный шум колеса, которое он приводит в движение, человек не способен развить гармонию своего существа, и, вместо того чтобы выразить человечность своей природы, он становится лишь отпечатком своего занятия, своей науки.*
Поскольку сама цивилизация «нанесла человеку эту рану», то лишь новая форма цивилизации может принести исцеление. Причина раны — антагонизм между двумя полярными измерениями человеческого существования. Шиллер описывает этот антагонизм рядом спаренных понятий: чувственность и разум, материя и форма (дух), природа и свобода, особенное и всеобщее Каждым из этих измерений руководит базовый импульс «чувственный импульс» и «импульс формы»*. Первый существенно пассивен, рецептивен, последний тяготеет к активности, власти, господству. Их сочетанием и взаимодействием создается культура. Но в утвердившейся цивилизации их отношение было антагонистичным: вместо того чтобы примирить оба импульса, сделав чувственность рациональной, а разум чувственным, цивилизация подчинила чувственность разуму таким образом, что утверждение первого принимает разрушительные и «дикие» формы, в то время как тирания разума истощает чувственность и толкает ее к варварству. Только свободное осуществление человеческих возможностей может привести к разрешению конфликта. Так как только импульсы обладают фундаментальной силой, воздействующей на человеческое существование, примирить эти два импульса способен только третий, опосредующий, который Шиллер определяет как побуждение к игре. Его целью являются красота и свобода Теперь мы постараемся восстановить полное содержание шиллеровского термина после слишком усердного его употребления в эстетической традиции
Задача сводится к поиску разрешения «политической» проблемы освобождению человека от бесчеловечных условий существования. Шиллер утверждает, что для решения политической проблемы «необходимо пройти через эстетическое, ибо именно красота ведет к свободе». Импульс игры — носитель освобождения. Его цель — не игра «с» чем-то, скорее это игра самой жизни, ускользающей за пределы нужды и внешнего принуждения, как проявление существования без страха и тревоги, и значит — проявление самой свободы. Человек свободен только там, где он свободен от принуждения, внешнего или внутреннего, физического или морального, — когда его не ограничивают ни законы, ни потребности*. Но такое принуждение — реальность. Следовательно, свобода есть, строго говоря, свобода от утвердившейся реальности, человек становится свободным, когда «реальность теряет свою серьезность», a ee необходимость «становится легкой» (leicht)*. «Величайшая тупость и величайший ум проявляют некоторое сходство в том, что оба ищут лишь реального», однако такая потребность, такое влечение к реальному «являются всего лишь следствием недостатка». Напротив, «равнодушие к реальности и внимание к видимости» (показ, Schein) свидетельствуют о свободе от нужды и «истинном расширении человеческой природы»*. Подлинно человечной цивилизации человеческое существование будет скорее напоминать игру, чем труд, и человек будет жить скорее в сфере видимости, чем нужды.
Эти идеи — одно из наиболее значительных достижений человеческой мысли. Важно понять, что речь идет не о трансцендентальном, «внутреннем» освобождении от действительности или просто интеллектуальной свободе (на чем недвусмысленно настаивает Шиллер*, но о свободе в самой действительности. Это — бесчеловечная действительность нужды и недостатка, которая «теряет свою серьезность» тогда, когда нужда и недостаток могут быть удовлетворены без отчужденного труда. Только тогда человек свободен для «игры» своими и природными способностями и возможностями и, только «играя» ими, он свободен. Его миром становится видимость (Schein), а его порядком — красота. Это осуществление свободы, игра, которая больше принудительной физической и моральной реальности: «...в приятном, в добре, в совершенстве человек проявляет только свою серьезность, с красотой же он играет»*. Такие формулировки могли бы выглядеть как безответственный «эстетизм», если бы мир игры был всего лишь орнаментом, роскошью, праздником в репрессивном в остальном мире. Но в данном случае эстетическая функция понимается как принцип, организующий человеческое существование в его целом. И, только став «всеобщим», он способен это сделать. Эстетическая культура предполагает «совершенный переворот всего способа ощущать»*, и такая революция становится возможной только при достижении цивилизацией высочайшей физической и интеллектуальной зрелости. Только тогда, когда на смену «принуждению потребностей» придет «понуждение избытка» (изобилия), человеческое существование получит толчок к «свободному движению, которое само для себя есть и цель, и средство»*. Освобождение от гнета целей, достижение которых приносит страдания, и навязываемых нуждой функциональных ролей (performances) поможет человеку вернуть себе «свободу быть тем, чем он должен быть»*. Но то, что «должно» быть, — это сама свобода: свобода играть. Мыслительной способностью, осуществляющей эту свободу, является воображение*. Оно постигает и проектирует возможности бытия в целом; освобожденные от порабощающей материи, они предстают как «чистые формы», создающие собственный порядок: они существуют «согласно законам красоты»*.
И если бы этот порядок возвысился до принципа цивилизации, импульс игры буквально преобразил бы действительность. Природа, объективный мир переживались бы тогда не как господствующие над человеком (как в примитивном обществе) и не как порабощенные человеком (как в существующей цивилизации), но скорее как объект «созерцания»*. Такое изменение основополагающего и формирующего опыта ведет к изменению самого объекта опыта: освобожденная от насильственного господства и эксплуатации и формируемая принципом игры, природа также стала бы свободной от собственной жестокости, чтобы явить богатство своих бесцельных форм, выражающих «внутреннюю жизнь» ее объектов*.
Соответствующее изменение произошло бы и в субъективном мире. Здесь эстетический опыт также упразднил бы неистовую и эксплуатативную производительность, превращающую человека в инструмент труда. Но это не означало бы возвращения к состоянию страдательной пассивности. Его существование по-прежнему было бы деятельным, но «чем он владеет и что он создает, не должно носить на себе следов служебности и боязливой формы его цели»*; за пределами нужды и тревоги человеческая деятельность обретает форму видимости — свободного проявления возможностей.
В этом месте взрывная сила концепции Шиллера становится особенно очевидной. Согласно его диагнозу, недуг цивилизации состоит в конфликте двух основополагающих импульсов человека (чувственного побуждения и побуждения к форме) или скорее в насильственном «разрешении» этого конфликта: учреждении репрессивной тирании разума над чувственностью. Следовательно, для примирения враждующих импульсов необходимо устранить эту тиранию, т.е. восстановить чувственность в своих правах. Путь к свободе пролегает через освобождение чувственности, а не разума, и ограничение «высших» способностей в пользу «низших». Иными словами, для спасении цивилизации потребовалось упразднение репрессивного контроля, наложенного ею на чувственность. Именно из этой идеи вырастает Эстетическое Воспитание. Его цель — основать нравственность на почве чувственности*; необходимо примирить разум с интересами чувств и ограничить господствующий импульс формы: «сама чувственность должна защищать победоносною силою свою область и противодействовать насилию духа (Geist), которому он благодаря своей опережающей деятельности весьма склонен»*. Разумеется, если свобода должна стать управляющим принципом цивилизации, не только разум, но также и «чувственное побуждение» нуждается в ограничительном преобразовании. Увеличение высвобожденной чувственной энергии должно прийти в согласие с универсальным порядком свободы. Однако, какой бы порядок ни налагался на него, чувственный импульс должен сам быть «действием свободы»*. Сам свободный индивид должен создать гармонию между индивидуальным и универсальным удовлетворением. В подлинно свободной цивилизации все законы устанавливаются индивидами: «свободою давать свободу — вот основной закон эстетического государства»*; в подлинно свободной цивилизации «воля целого» осуществляет себя только «через природу отдельного индивида»*. Порядок становится свободой, только если он обосновывается и сохраняется свободным удовлетворением потребностей индивидов.
Но у устойчивого удовлетворения есть роковой враг — время, внутренняя конечность и быстротечность всех условий. Поэтому идея целостного освобождения человека необходимо включает рассмотрение борьбы против времени. Мы видели, что образы Орфея и Нарцисса символизируют бунт против преходящести, отчаянные усилия задержать поток времени — иными словами, консервативную природу принципа удовольствия. Таким образом, если государство свободы действительно возможно только как «эстетическое государство», то оно должно в конечном итоге победить разрушительное течение времени. Это и есть подлинный признак нерепрессивной цивилизации. Вот почему Шиллер приписывает освобождающему побуждению к игре функцию уничтожения «времени в самом себе» и примирения бытия и становления, изменения и тождества*. Эта задача ведет прогресс человечества к высшей форме культуры.
Идеалистические и эстетические сублимации, занимающие значительное место в работе Шиллера, не снижают ценности ее основных положений. Подтверждением тому служит то, что они привели в ужас Юнга. Он предупреждал, что преобладание импульса игры «снимет подавление», что повлечет за собой «обесценивание прежних высших ценностей», «культурную катастрофу» — одним словом, «варварство»*. Сам Шиллер, по-видимому, был менее склонен отождествлять репрессивную культуру с культурой вообще и допускал риск катастрофы для первой и даже утрату ее ценностей, если бы это привело к более высокой форме культуры. Он полностью осознавал, что первые свободные проявления импульса игры могут вызвать неприятие, ибо они будут слиты с «диким вожделением»* чувственного побуждения. Однако, по его мысли, эти взрывы «варварства» уйдут в прошлое с развитием новой культуры, переход к которой от старой культуры возможен только путем «прыжка». Шиллер не рассматривал вытекающие из такого «прыжка» катастрофические изменения в социальной структуре: этому препятствовала ограниченность идеалистической философии. Но его эстетическая концепция отчетливо указывает направление перемен, ведущих к нерепрессивному порядку.
Сгруппировав ее основные элементы, мы получаем:
(1) Преобразование труда в игру и репрессивной производительности в «видимость», которому как определяющий фактор цивилизации должно предшествовать преодоление нужды*.
(2) Направленное на себя сублимирование чувственности (чувственного импульса) и десублимация разума (импульса формы) с целью примирения двух основных антагонистических импульсов.
(3) Победа над временем, разрушающим устойчивое удовлетворение.
Эти элементы практически означают примирение принципа удовольствия и принципа реальности. Припомним основополагающую роль воображения для игры и видимости: воображение сохраняет цели мыслительных процессов, не порабощенных репрессивным принципом реальности; в виде эстетической функции они могут войти в сознательную рациональность зрелой цивилизации. Тогда игровой импульс видится как общий знаменатель двух соперничающих мыслительных процессов и принципов.
Другой элемент связывает эстетическую философию с образами Орфея и Нарцисса: картина нерепрессивного порядка, в котором субъективный и объективный мир, человек и природа находятся в гармонии. Орфические символы группируются вокруг поющего бога, чья жизнь посвящена борьбе со смертью и за освобождение природы, материи, скованной и сковывающей прекрасные и полные игры формы одушевленных и неодушевленных существ. Не ведая стремления, не ведая желания «чего-то, призывающего достичь себя»*, они станут свободными от страха и оков — и, значит, свободными per se. Отвергающий всякую другую деятельность, Нарцисс эротически предается созерцанию красоты, неразделимо соединяющей его существование с природой. Подобным же образом и эстетическая философия понимает нерепрессивный порядок как свободное принятие природой в человеке и вне человека «законов» видимости и красоты.
Нерепрессивный порядок есть, по существу, порядок изобилия: необходимость ограничения возникает скорее от «избытка», чем от нужды. И только такой порядок совместим со свободой. В этом пункте совпадают идеалистическая и материалистическая критика культуры. Обе согласны в том, что нерепрессивный порядок достижим только на ступени высочайшей зрелости цивилизации, когда возможным станет удовлетворение всех основных потребностей с минимальными затратами физической и психической энергии за минимальное время. Обе отвергают понятие свободы, взращенное властью принципа производительности, и сохраняют его для новой формы существования, возникающей на основе универсального удовлетворения жизненных потребностей. Царство свободы видится как лежащее по ту сторону царства необходимости: свобода — не внутри, но за пределами «борьбы за существование». Обладание и добывание предметов первой необходимости — скорее предпосылка, чем содержание свободного общества. Необходимость и труд создают царство несвободы, ибо человеческое существование в нем определяется чуждыми ему целями и функциями, которые препятствует свободной игре человеческих способностей и желаний. Поэтому оптимальное состояние здесь определяют скорее нормы рациональности, чем свободы, т.е. такой организации производства и распределения, которая требует наименьшего времени для снабжения всех членов общества всеми предметами необходимости. Обязательный труд по своей сущности — система бесчеловечных, механических, рутинных видов деятельности, в которой индивидуальность не может быть ценностью и самоцелью. Путь к разумной системе общественного труда пролегает через освобождение времени и пространства для развития индивидуальности за пределами неизбежно репрессивного мира труда. Игра и видимость как принципы цивилизации подразумевают не преобразование труда, но его полное подчинение свободно развивающимся возможностям человека и природы. Теперь в полной мере открывается расстояние между идеями игры и видимости и ценностями производительности и функциональной деятельности: игра непроизводительна и бесполезна в точном смысле, ибо она порывает с репрессивными и эксплуатативными чертами труда и досуга; она «просто играет» с реальностью. Но точно так же она порывает и с ее возвышенными чертами — «высшими ценностями». Десублимирование разума является таким же важным процессом для возникновения свободной культуры, как и самосублимирование чувственности. В утвердившейся системе господства репрессивная структура разума и репрессивное регулирование чувственных способностей дополняют и поддерживают друг друга. В терминах Фрейда цивилизованная нравственность есть нравственность вытесненных инстинктов, освобождение которых зависит от «падения» первой. Но благодаря этому падению высших ценностей они могут возвратиться в органическую структуру человеческого существования, от которой они были оторваны, и это воссоединение может повлечь за собой преобразование самой структуры. Когда высшие ценности потеряют свою враждебную отстраненность, изолированность от низших способностей, для последних станет возможным свободное принятие культуры.

|
|

|
|
|