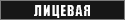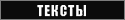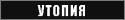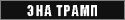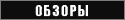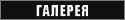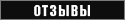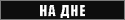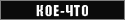Выпить, поговорить...— Значит, так, — сказал Родиков. — Сейчас дружно встаём.
А потом я сидел у тети Мани. Она налила мне полстопки и сказала: — Ешь давай. Вот картошка в мундирах. Если хочешь, могу помидоров достать. Но вместо этого опустилась на лавку. Всем своим десятипудовым весом. — Не знаю, — сказала она. — Вот сейчас бабы говорят — нет аппетиту, нет аппетиту! Какой еще аппетит им нужен? Вот меня разбуди хоть ночью, спроси: Мария, картошку будешь ли? Я скажу — буду! Картошку я всегда буду, хоть в мундирах, хоть без мундиров. Было бы чего есть, а за брюхом дело не встанет. И мы с ней понемногу выпили. — Нет, ты смотри, — удивилась она, — и пюре сделают, и с маслом, и со сметаной, а есть не хотят. Ах, аппетиту нету! Что же это за время такое? И помолчав, тетя Маня добавила: — Мне, вон, скоро семьдесят лет. А считай, что еще и не жила. А потом мы сидели с этим армянином в маленькой каморке с заднего хода. — Акопыч, — сказал он, — меня все так называют. Мой отец был Акоп. И мы выпили по граненому стакану. — Бери шашлык, — сказал он. — Ты такого еще не пробовал. Ешь, сколько хочешь. — Всё съем, — сказал я. — Кушай, — серьезно ответил Акопыч. — Захочешь еще, сделаем еще. — Русские, — сказал он, — не умеют пить водку. Поэтому они становятся как свиньи. Противно смотреть. — Где ты видел пьяных свиней? — спросил я. — Здесь, — сказал Акопыч. — Пьяная свинья — это русский. И мы выпили еще по стакану. — Когда я построил эту шашлычную, они все стали ко мне ходить. Принесут свою водку и пьют. Я их стал выгонять. Ты пришел, вот пиво, вот шашлыки. Кушай, пей. Та шашлычная у меня деревянная была, из досок. Они ее сожгли. Я приехал — пустое место. Один пепел. Нет шашлычной. Холодильники сгорели, прилавок, мебель. Ничего нет. Они подходят, говорят — что делать будешь? Всё сгорело. Я говорю, шашлычную надо строить. Из кирпича. Кирпич не горит. И построил эту шашлычную, на том же месте. И мы выпили по третьему стакану. — Там у меня зал, — показал он сквозь стену. — Там кухня. Там касса. Настоящая, с железной дверью. Там — холодильники. Там, — он показал на пол, — подвал, для пива. И он налил по четвертому стакану. — Ешь шашлык, пей водку, и поговорим о деле, — сказал он. — В этот комнат, — и он показал глазами на стены, — я принимаю самых дорогих гостей. Прокурор приезжает с блядями, я закрываю шашлычную, делаю шашлыки. Мы пьем водку, кушаем шашлыки и спим с этих женщин. И все остаются довольными. Комиссия приезжает из Москвы, и их привозят ко мне. Мы пьем водку, кушаем шашлыки, и всем становится хорошо. Проверяющие приезжают из облсоюза, их тоже везут ко мне. Я делаю шашлыки, наливаю водку, и делаю так, чтобы все были довольными. — Я шашлычник, — сказал Акопыч, — и я делаю так, чтобы всем было хорошо. Ты — художник, — сказал Акопыч, — ты делаешь так, чтобы все вещи были красивыми. Люди смотрят на них и восхищаются. Так сделай же здесь, чтобы человек, который вошел в этот комнат, опьянел не от водки, а от того, что он здесь увидел. И он снова налил мне водки. — Не молчи, — сказал он. — Я знаю, что тебе надо подумать. Выпей водки, подумай, и скажи, сколько ты хочешь. Я подумал. Я подумал, сколько это стоит у нас, и сколько это стоит в Москве. Или в Ташкенте. Или где-нибудь в Анапе. — Тысяча, — сказал я. — Тысяча, — кивнул Акопыч и крепко задумался. — Хорошо, — сказал он. — Ты сказал — тысяча. Я сказал — хорошо. Хочешь получить тысячу, пиши наряд. Пиши наряд на две тысячи, но на мое имя. Ты можешь сказать: две тысячи. Я скажу — хорошо. Пусть будет так. Но тогда пиши наряд на четыре тысячи. И на мое имя. И мы выпили с ним еще. — А прокурор тоже свинья? — спросил я у него. — Он начальник, — ответил Акопыч. А потом мы пили с сыном Акопыча, Генкой. И я понюхал водку и выпил. А Генка сказал: — Колька, ты мариец. Они всегда нюхают водку. И засмеялся. — Нет, — сказал я, — я гуран. — Ты не гуран, — засмеялся Генка. — Ты мариец. — А что, — спросил я, — марийцы смешные? — Они обрезают, — сказал Генка. — Что? — не понял я. — Отец говорит, что эти дураки обрезают там, где надставлять надо. И я понял, что марийцы живут, видимо, в городе Мары. — Нет, — сказал я, вспоминая старый анекдот, — нет, Генка, я гуран. А вот ты очень похож на китайца. — Я армянин, — серьёзно ответил Генка. — Ну, — сказал я, — тебе кажется, что ты армянин. А другие смотрят и думают: вот китаец Генка идет. — Нет, — недоверчиво сказал Генка, — я армянин. У меня мама армянин. Папа армянин. Моя мама в Армении живет. — Ну и что, — сказал я. — А ты бабушку свою видел? — Зачем бабушку? — спросил Генка. — Ты отвечай, — сказал я. — Бабушка у тебя есть? — Нет, — сказал Генка, — бабушка умерла. — А ты видел ее когда-нибудь? — Нет, — сказал Генка, — она давно умерла. — Ну и вот, — сказал я. — Что? — насторожился Генка. — То, — ответил я. — Наука утверждает, что дети редко похожи на родителей. А чаще на дедов. На деда или на бабушку. — Наука не знает, — сказал Генка. — Знает, — сказал я. — Тут и науки не надо. Ты доживешь и увидишь, что твои внуки будут похожи на тебя. — Внуки? — удивился Генка. — Откуда ты знаешь? — Я в институте учился, — сказал я. И Генка с уважением на меня посмотрел. — Книжки надо читать, — сказал я. — В книжках написано всё. — Я книжки люблю, — сказал Генка. И мы с ним стукнули стаканами и выпили. — У меня бабушка армянин, — сказал Генка. — Зачем ты так говоришь? — возмутился я. — Ты ее не видел. Твоя бабушка — китаец. А ты на нее похож. — Нет, — с сомнением произнес Генка, — моя бабушка — армянин. — Твоя бабушка — китаец. Если она не была китайцем, тогда на кого ты похож? — Если бы моя бабушка был китаец, я бы знал, — сказал Генка. — Тебе не сказали, — ответил я. — Почему? — спросил Генка. — Чтобы ты об этом не думал и не переживал. — Китайцы глупые? — осторожно спросил Генка. — Нет, — ответил я. — Если бы твоя бабушка была глупой, разве твой дед женился бы на ней? — А почему мне надо переживать? — серьезно спросил Генка. — Не надо, — сказал я. — Просто, по-разному бывает. Вот у меня есть знакомый. Жил-жил тридцать лет, а потом узнал, что его мать еврейка. И теперь водку пьет. — Мы тоже пьем водку, — сказал Генка. — Мы пьем, — согласился я, — а он спивается. — Почему? — спросил Генка. — Не хочет евреем быть. — А евреем быть плохо? — спросил Генка. — Откуда я знаю, — сказал я. — Просто, всё так устроено, что все кого-нибудь не любят. Один не любит армян, другой китайцев, третий русских не любит. Четвертого от евреев тошнит. А потом мы все от этого пьем водку. И мы выпили с ним еще. — Нет, хватит об этом, — сказал я. — Давай о деле. — Давай, — согласился Генка. Потом он задумался и сообщил: — Я магазин взял. У переезда. — Кассу? — удивился я. — Там же брать нечего. — Какой касса! — возмутился Генка. — Штукатурить буду. — Ну? спросил я. — Хочу орнамент пустить, — сказал Генка. — Вот скажи мне, какой орнамент сделать? — А ты какой хочешь? — На квадраты разбить? — Нет, — сказал я. — Скучно будет. Туда растительный орнамент надо. — Растительный? — Ну, — сказал я. — Ты коньяк пил когда-нибудь? — Пил, — сказал Генка. — Много пил. У нас в Армении хороший коньяк. — Вот на коньяке, — сказал я, — на этикетке, всегда рисуют виноградную гроздь и листья. Вот что-нибудь такое тебе и надо. — Я коньяк не люблю, — сказал Генка. И мы с ним выпили. — Ромбики сделать? — задумчиво сказал он. — Нет, — сказал я. — Кружочки? — Нет, — сказал я. — Туда лучше растительного орнамента ничего не придумаешь. — Херня, — сказал Генка. — Полумесяцы сделаю. — Делай, — согласился я. — Делай. Но растительный орнамент был бы лучше. Гораздо лучше. А это еще надо посмотреть. — Красиво сделаю, — сказал Генка. И мы с ним добавили по сто грамм. — Колька, — осторожно спросил Генка, — почему ты говоришь, что я китаец? — Китайцы все толстые, — сказал я. — Почему? — Они лапшу любят. — Нет, — сказал Генка, — лапшу римляне любят. — Римляне вымерли, — сказал я. — Раньше их было много, а теперь они вымерли. Остались одни итальянцы. Армяне еще. Китайцы. Немножко гуранов. А остальные все русские. — А евреи? — сказал Генка. — И евреи, — согласился я. — Но они тоже русские. И мы добавили еще. — Генка, — вспомнил я, — где белил взять? — У отца возьми, — сказал Генка. — У него целая фляга стоит. — Он не даст, — сказал я. — Не даст, — согласился Генка. — И что мне делать? — спросил я. — Приходи ночью, — сказал Генка, — я тебе склад открою. — Здорово, — сказал я. — Будем у Акопыча краску воровать. — Почему воровать? — возмутился Генка. — Возьмем и всё. — А ему не скажем, — сказал я. — Зачем говорить? — сказал Генка. — Слушай, он мне курить не дает. — Запрещает? — удивился я. — Нет, не запрещает. Просто, подойдет и смотрит. — Ну? — спросил я. — Что ну? — сказал Генка. — Я сигарету бросаю. Должен же я старших уважать. Он уходит. Я снова закурю. Он снова подойдет и смотрит. Я опять бросаю. Четыре пачки в день на землю бросаю. Мне их брат из Москвы присылает. — Да, — сказал я. — К жене тебя не пускает. — Почему не пускает, — сказал Генка. — Я езжу. Редко только. В прошлом году ездил. Она у моей мамы живет. — Скучно ей так, — сказал я. — Работу не бросишь. И отцу помощник нужен. — Да, — сказал я, — да. Только если бы моя жена жила в Армении, я бы всё бросил, и уехал туда. — Ты же мариец, — ухмыльнулся Генка. — А ты китаец, — сказал я. Ночью мы тащили с ним флягу, привязав ее к черенку от лопаты. Генка шел впереди, заслоняя своей необъятной спиной свет восходящей луны. Его жирная тень плескалась у меня под ногами. И из-за этого я попадал своими нетрезвыми ногами во все колдобины. И спотыкался на каждом ухабе... А потом мы с Гришкой Антоновичем стояли перед одноглазым Кузьмичем, который трясущейся рукой заполнял наряды. В дверях вагончика стояла его малолетняя дочка с бидоном самогона в руках. — Нету стульев, — задумчиво сказал Кузьмич. — Один только. — Да ладно, — сказал Гришка. — Как фамилие? — спросил Кузьмич. — Моё? — удивился Гришка. — Это, Антонович. — Нет, — сказал Кузьмич и повернулся всем корпусом, — я тебя про фамилие спрашиваю. — Антонович, — сказал Гришка. — Нет, — вздохнул Кузьмич, — непонятливый какой. Антонович — это отчество. А я фамилие спрашиваю. — Во! — понял Гришка. — Отчество у меня Владимирович. Григорий Владимирович. А фамилие — Антонович. — А отчество? — переспросил Кузьмич. — Владимирович. — Вот оно как, — удивился Кузьмич. Он снова замахнулся писать, но рука повисла над листом бумаги. — Вот оно как, — удивленно вздохнул он. И написал: Антонович. А потом мы пили самогон из грязного ковшика, а малолетняя дочка Кузьмича смотрела на нас своими неподвижными глазами. — Нету стаканов, — сказал Кузьмич. — Вчера последний разбили. И он задумчиво посмотрел на Гришку. — Слушай, — сказал он. — А может это в ЗАГСе ошиблись? — Что? — не понял Гришка. — Ну, второе отчество тебе написали. — Не знаю, — сказал Гришка. Он уже устал спорить. — Не подпишет вам наряд Бухмиллер. — вздохнул Кузьмин. — Не подпишет. В наряд надо фамилию писать. — Подпишет, — сказал Гришка. — Я ему паспорт покажу. — Паспорт? — удивился Кузьмич. — Ну, смотри... А потом мы лежали с тобой в постели. И ты спросила: — Ты завтра дома? — Поеду, — ответил я. — Опять поедешь, — сказала ты. — Куда? — В Искитим, — ответил я. — Есть работа? — Халтура, — ответил я. И тогда ты сказала: — Халтура. Вся жизнь — халтура... 1997
|