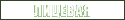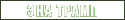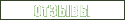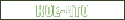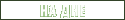С е р г е й Д е н и с о вП Р И К Л Ю Ч Е Н И Я
|
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
- Сережа, достаточно, достаточно…
- Таратор!.. молчи, сука!
- Гусев! вон из класса!
- Молчи, падла, кому сказано!
- Се-ре-жа!..
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
- Ге-ни-аль-но! ге-ни-аль-но! Сережа, вам следует обратиться вгрком. Пятого числа олимпиада. Мы подожмем все ресурсы… ваши пяточки сверкали так ярко… жара на улице, квас по три копейки маленькая, я не видел, но все равно - вы были там, вы обошли всех на два и более стадия, и до седых яиц оставалось еще больше пятидесяти лет… как вам удалось уложить их в тридцать шесть? я хочу сказать… как вам удается снискать любовь этих примерных крошек? Я хочу иметь во рту кусочек вашей плоти, пусть крайней, про запас… Почему не обрезают русских мальчиков? я собирал бы то, что от них остается, в шестяные коробки, я всфешивал бы громыхающую любовь поштучно… Сережа, вы - Эйнштейн!
- Еравноэмцеквадрат…
[Яша не мог не прошептать любимую формулу, во-первых, потому, что любил старенького математика, преподававшего с шестого класса и физику, любил той любовью ученика к наставнику, ценящей превыше всего случайно схваченную вонь из учительского рта, когда ни взгляд свысока потомственного русского интеллигента на выскочку из местечка, ни раздражительность измученного проверкой тетрадей педагога, хотя поработали бы вы словесником, у нас-то еще слава богу, ни бедность, бедность… Согласится ли Майка пойти с ним в кафе-мороженое? И если согласится, то на какие деньги, евреи, мы будем там кушать? Майка сидела тут же, на первой парте в правом ряду - мог ли он не шепнуть ей любимую формулу из "Сефер Йецира"? В-третьих, он был тут единственный еврей, и, как-никак, лучший математик среди двенадцатилетних мальчиков района, привлекавших пожилых педерастов чистотой и свежестью и иногда не отказывавших. Район был привилегированный, со всякими штуками. Секретарь, по слухам, жил в свое удовольствие]
[Повтор. Нас относит к задним партам. Затылком. Он бьется о пульс затылком. Нас относит к задним партам ветер не перемен - перемена была после - но времени. Оно не длится, а заполняется скрежетом мела о крашеные стены, как лакуна между левым и правым динамиками, между которыми мечется, мечется рикошет подслушанного, молния, ударившая постороннего в затылок и пригвоздившая его к мерзлой земле. При высоте падения пятнадцать метров тело падает, падает, падает - округляя, примерно квадратный корень из трех - можно успеть разглядеть верхушки деревьев и нижние ветки, потом - кровь на бумаге]
36
36
1296
[Если это была девственность, то ее лишили. Цена риска - любовь Дафниса и Хлои. Смещение невозможного в плоскость реального, смещение возможного в область исключенного. Отпуск в доме крестной - никогда больше! Была крестная, была - жена шофера секретаря обкома с животной фамилией; была, да вдруг сгинула, словно таинство крещения стало маленькой семейной тайной, одним из странных дней. "Повесь себе на шею этот колокольчик на голубой ленточке и верь, сказала дама Серебряного века, отведя его в маленькую церковь на окраине подмосковного поселка. Затем ему выдали удостоверение с печатью прихода".
Выигранная эстафета открыла ему дверь в кружок атлетов и гимнастов]
- А теперь, дети, маленькая проверочная.
[Как можно было понять, действие третьей ночи происходит в один из тех волшебных весенних дней, когда классные журналы, подобно аистам, пролетают над опушенными верхушками лип и тополей и приносят младенцев в бездетные семьи пенсионеров и автобусных кондукторов. Один младенец по ошибке попал в семью Суходроковых, и ему долго зализывали раны, а когда Суходроков-старший кончил, мальчику было уже двенадцать лет, и он с ног до головы был покрыт слоистой сухой корочкой желтоватого оттенка. Его отмачивали в настое череды, поливая из ковша под приговорку "с гуся вода, с Сереженьки худоба", кормили курагой и через день давали столовую ложку брома. Славный денек! - ]
подумала Алиса. Ее не особенно удивило проворство, с каким Суходроков умножал на тридцать шесть числа, совершенно на тридцать шесть не похожие, как если бы ему удавалось вызвать из зеркала образы людей, птиц и существ, никогда им не виданных, а может быть, вовсе не существовавших. Куда более странной, даже чуть-чуть пугающей, была работа его рук, штрих, росчерк, неудержимое сечение плоскости доски осыпавшимися значками, исступленное движение влево-вправо, влево-вправо, пока наконец он не был вынужден перейти на стены, но и там был так же стремителен, грозен, как грозен он был на спартакиаде, финишируя эстафету. Что, казалось бы, Алисе, которую неотступно преследовала тренер юношеской сборной, желавшая провести ее в финал всесоюзной спартакиады, победа в дежурной эстафете - милая! подумала Алиса, вспомнив о Майке, влюбленной в тренера. Детство длилось, обгоняя мальчиков - их кровь не рвалась наружу с каждой новой луной, их семя складывалось страницами старых книг из папиной библиотеки. А Суходроков ее достал - ее и Майку. Потому что когда он закрутил последнюю шестерку и обернулся к классу, смотря на Майку непонимающими глазами, из его ноздрей хлынула кровь и, когда он прямо-таки грохнулся на пол, рдяными струями лилась на паркет, на белизну рубашки, на бледно-красный шелк вокруг шеи. А потом он поднялся и -
- Я не заслуживаю вашей любви. Я просто хочу, чтобы меня любили, вот и все, -
сказал покоренным детям.
Пленка 1. Deja vu numero 3.
Шесть расплывшихся клякс цвета маренго или темно-серого драпового пальто вычерчивают въехавшие друг в друга сигмы, изначально лишенные графичности, как бы вычерченные дислексиком. Противоестественность их слияния в местах более темных, чем контуры клякс, передана скорее нервозностью фотографа, вздрогнувшего в миг съемки, чем самим характером изображения. Поверхность кадра процарапана косым желтым штрихом. Интервенция фантазии навязывает образы двух черных или серых кошек в процессе случки. Но, по правде говоря, нам мало что видно отсюда. Идет дождь. Осенним днем мы висим над трубой, возможно, огромного крематория, снабжающего город горячей водой и светом, и, видимо, будем падать
ночь четвертая
[Я слушаю звуки этой лестницы. По ночам я перебираю содержимое коробок с кусочками плоти, удержанными в памяти, и не притворяюсь, будто не люблю детей. Днем я хожу преподавать физику и математику в шестых - девятых классах средней школы, не спускаюсь на перемене в буфет и не прощаюсь с коллегами. Сегодня я остался в этом подъезде, потому что надеялся на еще одно случайное столкновение с маленьким заморышем, которого я преследовал от автобусной остановки.
Мое единственное развлечение - разглядывать по вечерам в школьных коридорах девочек на два - на три года младше своих учеников (в нашей школе шестиклассницы учатся в первую смену), и разглядев заведомых одиночек, безопасных, как и я сам, провожать до переполненного автобуса или троллейбуса, чтобы, нагнав, притереться к их полуженским попкам, вложить в трамвайной сутолоке свой пожелтевший хрящ между ягодиц]
[я почти бежал за ней сквозь февральский снег по косой тропинке, подрезая ее к стенке панельного дома; тропинка была извилистая, шла через деревья зигзагом вроде "м", поваленного на бок в белую мякоть снега, чтобы упереться в стену, а дальше был угол дома и подъезд. Она позвонила и вошла в дверь двумя этажами выше.
Я поднимаюсь на свой этаж и полминуты стою перед дверью, потом все-таки вхожу. Мальчик, прижавшийся к батарее между первым и вторым, наверняка ее одноклассник. Типично еврейский типаж морды лица, правда, это случается и с деревенскими. Я, например, в молодости сходил за "еврейского красавца". В тридцать лет наконец я получил награду - голос Алисы.
Однажды я подстерег ее утренний выход в школу и остановил между дверей. Чернявый ребенок с крохотными мускулами в школьной форме]
- Не надо, не надо, пожалуйста, не надо…
В полумраке подъезда ее рот, обрамленный двумя бордовыми "м", расплывшимися и поваленными на бок, притянул к себе мои ладони и, растянув уголки, впустил отвердевший язык. Мускулистое тело шлепалось об меня, как простыня на веревке - о дерево. Распяленный на языке рот освободил мне руки, и я раздвинул ее ягодицы под юбкой, большим пальцем целясь в нелепую складку. Я кончил, когда почувствовал кровь на пальцах.
Она убежала, оставив мне быстро подсыхающую пленку на опавшем хряще и маслянистые руки. У батареи грел свое тело афинский мальчик в ушанке на светлых кудрях.
- Ты здесь на всю ночь?
Античный мальчик не ответил.
- Думаешь, она выйдет на помойку, или утром за хлебом, или к подружке, которая поднялась к ней сейчас - румяные щеки, задик фигуристки, длинные белые волосы - и наверное, уже не спустится?
- Да, она выйдет - на помойку, или утром за хлебом, или в школу к первой смене - вместе с подружкой, которую зовут Майка и в которую влюблены все мальчики - атлеты и гимнасты, прекрасная, как гостья из будущего, и я буду ждать ее всю ночь.
- А я - старый хрен, потерявший ключ от маленькой железной двери, грязный приставала и опытный взломщик. Моя фамилия Громов, а друг зовет меня Профессор, потому что я в самом деле был химиком и преподавал в университете, правда, зоологию и в должности доцента.
- Суходроков.
- Слушай, Суходроков. Я живу здесь, этажом выше твоей любимой, и ты можешь прийти ко мне в любое время - правда, застанешь ты меня не всегда. В этой баночке - тот винтик, который ты здесь потерял. Кончится - придешь за новым. А сейчас ты научишься делать уколы.
Я дал ему шприц.
- Меняй почаще.
- Профессор, но ведь это стоит денег! Я знаю, мне мама говорила. Мне нипочем не расплатиться с пушером, если я не стану преступником.
- Станешь, если не повезет. А вообще - не бери в голову. Первый срок взаймы. Вернешь, когда состаришься.
[я нашел у себя то, что было нужно, и тотчас сиреневая струйка брызнула, маслянисто оседая в кубике под поршнем, окруженная пушистым туманом. В прозрачном столбике прошел красный снег. Вниз.
Затылком. Я бьюсь об пульс затылком]
Яша стоял, прижавшись детским телом к батарее и думая о том, что Майка, наверное, останется ночевать у Алисы, а в школу опять не придет, и, значит, единственный шанс побыть с ней - это прижаться детским телом к батарее и думать о том, что Майка, наверное, останется ночевать у Алисы, а в школу опять не придет.
Пленка 1. Deja vu numero 4.
Шесть собранных клякс цвета маренго вписывают в поле кадра сигмы, изначально лишенные графичности, как бы вычерченные дислексиком. Нервозность фотографа передана противоестественностью их слияния в местах более темных, чем контуры самих клякс. Поверхность кадра процарапана косым желтым штрихом. Идет дождь. Интервенция фантазии навязывает образы черных или серых кошек в процессе случки. Осенним днем дождь идет над трубой огромного крематория, снабжающего город горячей водой и светом, и, видимо, мы будем падать
ночь пятая
Когда Суходроков-старший кончил, было уже заполночь. Только сейчас он обратил внимание на амбиент низких частот, вползающий в щель под дверью - из коридора и далее, из комнаты мальчика. Суходроков прищурился.
Он подтянул тренштаны и вышел в коридор.
- Серый.
[я останусь здесь на всю ночь и буду ждать, покамест ее легкое дыханье вновь не сдует локоны - если, конечно, у нее бывают локоны, потому что локоны бывали только у гимназисток, - не сдует с плеча тополиный пух, которым усыпана вся лестница, весь наш город в это время года, - и не прошелестит по перилам - мимо меня, мимо праздного почтового ящика - я жду письма от Крапивина. "Сосунку предоставь обжиматься, мужику подавай его трах", а меня - меня оставьте с моим письмом и картинкой с желтым шелковым платьем, вздувшимся вокруг бедер - вздутым дуновением легкого дыхания Алисы или Майки, проскользившей мимо по перилам и далее, за дверь в желтое поле одуванчиков и белое - тополей. Лето.
Здесь никогда не зазвучит музыка - днем я слышу их голоса на переменках и ответы на уроках, а ночью - шорох шепота, уличный гул (они догнали меня, когда я бьюсь затылком о пульс. Ночью). Мы падаем - я и синие хлопья снега в стеклянной трубочке]
- Серый.
[я мог бы им гвозди забивать]
- Не валяй дурня, твою мать. Я к тебе обращаюсь.
- пАПА ?!
- Что "папа", что - "папа"? Музыку выключи. Мать больше не может через твое бубу- бубу- бубу. Тебе дня мало?
[мне мало дня, мало ночи, день и ночь день ото дня короче, я бы мог включиться и сделать стойку, но от этой стойки содрогнутся койки. Я ищу пространства за окном в телевизор, а к телевизору подползаю низом, и так до тех пор, пока не охуею, прижавшись лбом и лобком - к батарее]
- СОБАКА ЕБАНАЯ!!!
[еб твою мать, блядь]
Когда Суходроков кончил опять, он уже не слушал шорохи под дверью. Из щели выливается синий ручей, смешанный со сгустками снега - вниз, в подставленный алчущий рот секс-агрегата. Он застывает по краям поваленных на бок сигм сухой лиловой пленкой, которая затем осыпается, осыпается, осыпается - над городом идут февральские снега, засыпавшие деревянные хозблоки почти до крыши. Засыпающие деревянные хозблоки засыпают вместе с Суходроковым-старшим, со старшими, со старшей пионервожатой, принимающей остаточек у мальчиков из старших отрядов. Старшие идут строем. Впереди под знаменем - Майка и Алиса, победительницы всесоюзной спартакиады. Раз-два, раз-два, - мелькают их смуглые коленки под синими юбками. Над трибунами поднимаются горнисты, горны их поднимаются почти одновременно, и каждый прочерчивает тонкую золотую линию к солнцу. Тонкий-тонкий горн. Отбой. Суходрокову-старшему это снится.
Отбой. На лагерных койках принимаются дрочить школьные отпетые, и так они будут дрочить лет по пятнадцать, если только не рвать очко малолетке. Их кожаные движки работают не переставая - мы падаем. Чем ниже моя голова, тем глубже мои мысли.
Суходрокову-старшему снится: он на торфоразработках хуячит десятника в затылок лопатой.
[я выбираю второй, и впервые в жизни мне приходится вспомнить ту фотографию из первой желтой пачки, где мне нет еще четырех лет. Негатив. Сплошной негатив - сверкающие алюминием колонки на фоне ночного неба, вспышка - справа, вспышка! - слева, завернись в простыню и ползи на Улыбышево, где в 99-м был похоронен Трембак. Затылком.
Это был единственный негатив форматом девять на двенадцать]
[одна семейная тайна - негатив форматом девять на двенадцать соответствует deja vu с фиксированным номером и позитиву на бумаге "Березка", где мы видим стриженного под машинку темноволосого мальчика в джемпере, лет четырех или меньше. Черты его лица ускользают от описания - может быть, потому, что Суходроков никогда не узнавал в нем себя]
Ошибка фотографии.
Просто был выдан не тот снимок.
И, успокоенный этой мыслью, Суходроков слушает звуки этой ночи. Звездной ночи.
[Я останавливаю дрожание стрелок на индикаторах и прислоняюсь спиной к батарее. Алиса знает меня столько, сколько живет здесь, а значит, почти с рождения. Однажды я подстерег ее утренний выход в школу и остановил между дверей]
- Сережа? Не надо, я тороплюсь.
- Алиса, мы не мешаем вам своей музыкой? Я просил ребят играть в наушниках, но они…
- Уперлись? Что ж, это естественно. Музыкант должен слышать свои уши, вы понимаете?
- Не совсем.
- Они у музыкантов трепещут, как простыня на ветру, как оранжевый хрящ пружинят. И вот это дрожание музыкант должен слышать, иначе труба. Он никогда не сыграет верно.
- Признаться, я не думал, что наша музыка может быть вам интересна…
- Она мне не интересна. Я говорю вообще, вы понимаете? Позвольте пройти, пожалуйста… нет, это уже неприлично]
И она пересела на другой краешек парты. Подальше от Сережки.
Собственно, Алиса любит Майку. Но в тот день у доски он их достал. Но она все равно пересела. Легкое дыхание, тяжелое дыхание, без дыхания… она наклонилась, как бы завязать шнурок, и поцеловала Суходрокова в кончик члена, а затем провела зубами под головкой и, оставив свою руку у корня свежего ствола, поднялась над партой. Ветер принес запах сирени и свежеспитого чая от белых волос любимой - спереди, на четвертой парте. Суходроков кончил и подумал, застегивая штаны под партой -
[цена риска. Нам не угнаться за их месячными, и луна тянет их вверх, но сегодня я выиграл. Вероятность была ничтожна, но я выиграл. Я не Дафнис, а она - гостья из будущего, но она любит меня прямо на уроке и расскажет своей подружке об этом. И может быть, подружка тоже полюбит меня или моего Профессора, и тогда он не будет так одинок и не станет подглядывать в щелки мужских туалетов, где любой хулиган может нассать ему в глаз. И просто убить. Убить. Нас за это могут убить, потому что мы любим детей]
Что есть силы возвращаться к одному и тому же, что не может быть описано, а может быть лишь отграничено - по правому краю, по левому краю, по центру - к городку провинциальному, летняя жара, на площадке танцевальной - сорок первый год, как только что было сказано по телевизору. Рамка отграничивает то, что не может быть описано - поле изображения, и, значит, нет необходимости в "стратегии апофатического дискурса", как если бы речь шла о трансцендентных сущностях, когда речь идет об имманентном… мне запретили ждать ответа от университетского сообщества или от кислотного пипла, поэтому говорение превратилось в попугайничанье, хотя, мой дорогой адмирал Вислозад, это по-прежнему адресовано Вам, Вам, Вам, ждете Вы письма или нет. Я вернусь в Крапивин на щите - я сплю на нем вот уже восьмой (?) год, по крайней мере, на момент написания этих строк, по рекомендации врача перенесшему позвоночную травму. Простите мне это обращение к личному: безлично говорить о своем - худшая из литераторских уловок. Милостивый государь мой, мой, мой! Здесь я обладаю Вами вполне. Обладать Вами вполне - моя последняя, несбыточная, любовь.
Стоило бы забыть о себе, хотя бы пока говорится.
Говорить, таким образом, есть высший альтруизм.
Не помнить о себе
кончить
Пленка 1 - 27.
Нам окончательно остоебенило пересказывать на разные лады это преследующее фотографа deja vu, и мы вкратце объясним, что именно запечатлено на этих разной ясности кадрах. Худенький черный котик стоит раком, а котик потолще, серый, пристроившись сзади, ебет его в жопу. От неожиданности фотограф вздрогнул, и изображение смазалось. Получилось что-то вроде двух сигм, изначально лишенных графичности, как бы вычерченных дислексиком. Поверхность кадра процарапана косым желтым штрихом. К этому кадру мы больше не вернемся, что означает, видимо, что падать мы не будем.
ночь шестая
Громов заперся на три замка и не откликался ни на звонки, ни на стук в дверь. Вот уже две недели он не выходил из квартиры, увлеченный новым опытом, который поставил бы Профессора на большую ногу - приготовлением диэтиламида лезергиновой кислоты из подсолнечного масла, рожек спорыньи и еще нескольких подручных ингредиентов, впрочем, нужных в незначительном количестве. Выход был несоизмерим с потреблением масла, было чадно, как в блинной на Вознесенском, рожки подходили к концу. Полученный препарат он испытывал на себе, что таки здорово подкосило его рассудок. Попросту, он ебнулся.
А между тем никогда еще в нем так не нуждались. Винтик, который Суходроков потерял в подъезде у Алисы, мог помочь найти только Профессор. Мальчик жил около его дверей, но дождался своего только тогда, когда у пожилого химика вышло четыре ведра подсолнечного масла.
- Э?
- Профессор, вы дома! И вы не открывали!
- Ну разумеется, я дома. Я от тебя ничего не скрыл: меня не всегда можно застать. У меня достаточно дел, чтобы не подходить на каждый стук. Тем более, звонок. Car on ne sait jamais… Это был важный опыт!
- И он окончился успешно?
- Успешнее не могло быть… впрочем, есть еще две - три детали, которые необходимо уточнить. Ты что хотел-то?
- Я пришел за кубами…
- Кубы… Вечно эти проклятые кубы! Половина этого измученного слухами района ходит ко мне за кубами. А кто хоть раз зашел ко мне на чай!.. Вся русская литература, впрочем, показывает, что врач нужен одному больному - Чехов, Вересаев, Булгаков, Лермонтов, черт возьми! Да будут тебе кубы, не волнуйся. Но взамен…
- О господи!
- Да нет, я не потребую твою душу, не заставлю сосать хуй и даже не соберу в мешочек потерянное тобой время… В магазин сходишь?
- Профессор!
- Купи четыре ведра подсолнечного масла. Нерафинированного.
И Суходроков, громыхая ведрами, потащился в угловой.
В магазине была ужасная давка. Так, что Сереже удалось притиснуться к какой-то мокрощелке лет восьми, тоже стоявшей в бакалею. Ее пышный синий бант лег ему на нос и не отставал уже до самой кассы. Он грезил этой попкой уже две недели. А девчушка, казалось, не хуже любого подростка была невинна и мечтательна. Влезши на сережин болт, она глубоко и часто дышала, и стоит ли удивляться, что Сережа позабыл про масло и, отстояв порядочный хвост, вышел из магазина ни с чем. Впрочем, он нес пустые ведра. И впереди него, иногда оглядываясь и улыбаясь, шло это небесное дитя.
Они зашли в подъезд и поднялись на пятый этаж. "Милая", - думал Сережа, - "ты не сможешь меня обмануть". Клара - ибо это была она - впустила его в переднюю и обвила пухлыми ручонками шею мальчика, выдыхая ему в рот. Полчаса спустя она, уже совершенно обнаженная, лежала на двух составленных вместе табуретах, а белый кафель ванной придавал выполняемой операции нечто от медицины и даже от академической медицины. Сережа ставил ей литровую клизму. Дети, как это было свойственно возрасту обоих, играли в доктора.
Когда с клизмой было покончено, Сергей был возбужден достаточно, чтобы мягкая попка стала наконец предметом более нежной игры. Клара распустила свой задний проход, дав сережиному члену вместилище более надежное, чем школьная ширинка на алюминиевых пуговицах, несравненно более мягкое, чем кулак Гусева. Бархат, просто бархат -
[думала Алиса, ощущая язычок Майки каждым миллиметром своей щелки. Та не отставала, сосредоточенно думая о Сереже и том запахе, который еще хранил Алисин рот. Господи! - кощунственно думали обе, кончая и начиная вновь. А и впрямь, кто, как не Бог, дал им это счастье - любить и быть любимым в двенадцать лет, не боясь тела, не стесняясь больше, чем это необходимо для страсти, не зная другой радости, кроме своей наготы. Часто, часто с завистью думаю я обо всех детях, нашедших путь друг к другу в городке Крапивине, и с жалостью - обо всех прочих, для которых их плоть и в зрелые годы останется по преимуществу связана с запахом общественных сортиров, а не рта любимого или любимой. Пусть их! они и не знали, что этим местом можно не только писать]
Но не вечно и прекрасное, а потому, истощившись в усердии, Сережа оставил Клару, вернувшись в магазин и вторично отстояв хвост в бакалею. Давали гречку. Детям двадцать первого века и невдомек, что могло это значить в провинциальном городке восьмидесятых. Обезумевшие домохозяйки, пропахшие синедрионом, рвались к кассе. Каждая хранила свою тайну, допуская на лицо только выражение безличной озлобленности. А между тем… Но куда как далеко можно занестись, исследуя глубины поживших баб. Пусть и их! счастье их - в оставленном позади детстве. В замужестве - Суходрокова. Дети их редко следуют примеру родителей.
1989