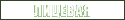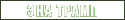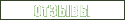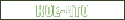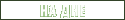Сие рассказанное случилось незадолго до того, как Александер неудачно сходил в лес за грибами. Настолько неудачно, что нашли его месяцев через шесть, благодаря цветочкам в апреле и их собирателям. Конечно, за такой срок он неузнаваемо изменился, стал совершенно неспособен еще о чем-то там мыслить или переживать. Честно говоря, наши общие знакомые поговаривают, что такой вот "бесчувственности" и "бесчеловечности" давно хотел он, к ней и стремился в последние времена.
Поскольку бывшая супруга утверждает, что молилась за него именно в тот осенний вечер (и лично я верю, мне она всегда нравилась, и это дело продолжается), то возможно и такое: об Александере уже не надо беспокоиться, теперь у него все нормально. То ли дело у нас тут, у продолживших свои заплывы на дистанциях неизвестной (но очень, очень протяженной) длины. Ох уж эта вода зеленая, мутная, от всыпанной хлорки глаза воспаляются и нос скручивается в трубочку, подошвы рук и ног покрылись грубо вырезанными морщинами, а мы дальше плывем.
Мрут люди. Как мухи. Как назло — например, мне. К одному собирался ехать в Москву, пожить у него, расслабиться, поговорить. Год собирался, тайна, ему не сообщая о приготовлениях. И он тоже того, ноктюрн сыграл.
Я все могу понять, и даже понимаю. Возникла дилемма: если сейчас об Александере не написать, он обидится там у себя, это обязательно; но если написать, как ни старайся и сколь ни влезет, — скривится, зачешется нервно, скорчит рожу и таким останется надолго. Его страшные рожи до сих пор грозятся моему внутреннему взору. Обидчивый, да уж, нервный, мнительный — таким он был. Вооружимся парой девизов: если не я, то кто? и другой: было именно так, потому что чувствую и помню так, никак иначе! Иного у меня нет.
За сим проследим несколько дней из жизни безвременного художника, в один из последних его месяцев. Пока его приятели или жены и дети приятелей не сдерут со стен последние картинки, нарисованные и раздаренные Александером, он будет считаться художником. Пока кто-то смотрит на его полотно на стене. Думаю, эти последние годы и месяцы как раз имели какое-то значение. До того у всех нас было трафаретное счастливое (или несчастное, какая разница?) детство, комплексы и достижения скучной юности. Прыщи вьюношества скучны и отвратительны, ох, по мне — так очень. Там все неотличимы, а что может быть хуже?
Мы в августе прожили неделю на одном из озер Вуоксы, за терпимые (мной выложенные) деньги наняли в Приозерске лодку, затем гребли два дня. Место, к которому пробивались, помнил Александер. В лодочном прокате документов с наc не взяли, поэтому беспокоиться о возвращении в срок не приходилось. Вернемся, когда надоест, или когда поругаемся, оставим лодку втихую у причалов, а сами скок на электричку. Пока гребли к месту, закидывали спиннинги, иногда стояли в заводях, чтобы на вечернюю уху надергать. Рыбалка шла нормально, хотя щука не брала. Но мы, как два младых Хемингуэя, были уверены, что никуда ей от нас не деться. (И как он, мы сильно ошибались в главном, ну да, бог с ним.)
Я быстро убедился в верности Александера своим принципам. Эдак по-доброму отлынивал он от усилий по всем направлениям: если греб, то быстро и демонстративно уставал, притом не жалуясь вслух (ручки весел "вырывались" из его рук, шлепали о воду, а меня обдавало снопами брызг); обнаружил поразительное для рыбака со стажем неумение разбить лагерь, насобирать подходящих дров (мог часами искать тоненькие веточки или отдирать от несчастных берез живые, напитанные соком ветки), не сумел соорудить очаг для приготовления и удобного потребленья пищи. Я выяснил, что у него иные принципы: зачем так туго натягивать палатку, если дождя может и не быть; зачем хорошие дрова, если как-нибудь сгорят любые; зачем варить в котелке суп, если любую консерву и так пожевать за счастье, запивая чайком.
И ведь чай — святое для нас обоих дело. Но у него не оказалось чашки, приспособил неглубокую алюминиевую тарелку. На мой взгляд, очень неудобно, кипяток остывает мгновенно, держать ровно тарелку и хлебать с края — тоже мучительно. Говорю: возьми новую консервную банку, отмой от жира, обей края булыжником, чтобы не пораниться, вот тебе и нормальная чашка! Он кивал, хитро и выразительно поглядывая, а вдруг я и сам ему чашку сделаю! Я принципиально не сделал, а он так и не созрел. И вообще, все подобные вопросы меня волновали гораздо больше, чем Александера.
Пока гребли, я прислушивался к своим впечатлениям и самочувствию, желая понять, на какой срок мне самому рассчитывать. На три-четыре дня, или на неделю, или даже дней на десять? Хотелось, теоретически, изолироваться на более долгий срок. Но условия могли оказаться всякими, в том числе и ужасными, Александер — невыносимым, рыбалка — нерезультативной, а погода — дождливой. В итоге пробыли мы на месте шесть дней.
Главным испытанием стало ненормальное количество комаров. Приплыли на место вечером, торопясь, разбили лагерь, я то и дело покрикивал на приятеля, потому что одному было не успеть до темноты. И уже в густых сумерках прилегли у костра, с чашкой я, с тарелкой Александер, пили чай с бергамотом. Говорили, кстати, очень мало, и в пути, и в первую ночевку. Я уставал тогда зверски, ночевали в сухом месте, на скошенном лугу, заснул мгновенно (времени на чаи и наблюдения не осталось), и тогда я толком ничего не понял про комаров. Разве что рожа чесалась. А тут уже в первой темноте они дали все понять.
Пошли в бой кровососы. Я загодя постарался сделать костер на проветриваемом месте, чтобы ветерок, и дым не к небу, а по низу стелился. Сам залег с подветренной стороны, внутрь дымка, защиту капитально готовил. Оказалось, все ерунда, эта предусмотрительность. В первый час комариной кормежки я был стоиком. Медленно тональность подошла к молчаливой истерике. Комаров на меня садилось в отдельный миг до сотни. Имея на ногах спортивные штаны и поверх джинсы, ног я не уберег, равно как шею, руки, лицо и спину. Сквозь майку, рубашку, свитер и куртку они умудрялись прокусывать и дотягиваться хоботками до кожи, сосать кровь — чудовищно увеличиваясь в размерах, оглупляясь и отваливая красными рубинчиками. Вспухали бугорки укусов, немилосердно чесались. Истовым магометанином стал, "омывал" лицо ладонями, снимая угнездившихся гадов, утюжил ладони друг о дружку, о ноги, шею, бока и особенно о задницу. Она оказалась самой болючей. Со стороны это выглядело потрясающе смешно. Я бы на месте Александера сдох от хохота. Он-то из тех, которых комары не любят, а сами они к некоторому количеству укусов относятся спокойно, не чешутся, не отмахиваются — ничего не вспухает и не зудит. Александер, конечно, посмеялся, но вроде надоело, даже сказал, что от моих дерганых движений у него в глазах зарябило. Пошел в палатку укладываться.
У меня веселье только начиналось. Палатка было одноместная, почти как горная, полтора в длину и метр в ширину. Я не вмещался в длину, ноги остались снаружи. Нам двоим удавалось лежать лишь на боках. Это была палатка Александера, год или два назад он ее намочил, под грозой или там в кораблекрушение, а потом не высушил, просто кинул в чулан свернутой, палатка гнила и прела все это время. Дыры — ладно, гнилые веревки — тоже, вот воняла она страшно. А этот, как и во всем, выказал отрешенность от земных чувств — плевать ему, что "попахивает". Лег и заснул. Я за ним влезаю — звон внутри от комаров стоит симфонический, даже вагнеровский. Его бужу, выгоняю, засунул дымящуюся головню, дождался, когда из дыр дым полез, пошугал внутри полотенцем. Опять влезли. Спрятался я в спальник, лицо полотенцем обмотал, ноги в ботинках, до подбородка шапчонку натянул, думаю — врешь, не возьмешь. Я так когда-то от клопов спасался! И через бесконечный час бдения полез снова наружу, к замечательному костру (который надо было разжигать заново). Снаружи они жрут, но их можно убивать (хотя руки в коросте запекшейся крови). А в палатке, в спальнике, как псих в смирительной рубашке — не посопротивляешься. Так я не мог, а сна в таких условиях быть не могло тоже.
Вылез, заново нацепил все, что было из одежды. Сел у костра, раздул угли, накидал веток с листьями, травы, вперемежку с опавшей хвоей и шишками, чтобы дыму стало много. И пошел дым на меня, густой, теплый, запашистый. Комаров на мне осталось уже мало (хоть и вспухший, измордованный, а заметил — это достижение!). Дышать нечем, глаза слезятся, но в сравнении с адом это тьфу. Руки уже были как подушки, перчаток в поход не взял, август ведь, опять пришлось тряпками спасаться. Хорошо, что мы не девочки, зеркальца не было на себя взглянуть...
Медитировать (в смысле, размышлять о прожитом) до этих пор было некогда. В отличие от того же Александера, я как раз люблю длительные расслабленные состояния, в каком только и можно все вспомнить, расставить, решить, что и зачем и нужно ли. На рыбалку ехал для этого: хорошо, наверно, меланхолично посиживать с удочкой, главное, чтобы клевало пореже. Рыбачил я в последний раз давно, в глубоком детстве, тогда не клевало вовсе; по молодости, помню, горел нетерпением, очень обижался и на реку, и на рыбу. А в последние времена у меня очень расшаталась нервная система (будто и не система, а зубы гнилые), жизнь все клинья повышибала. Подряд из трех редакций вытурили, в четвертую, последнюю в моем питерском пригороде, уже не взяли. Врагам и поклепам поверили. Я ведь — журналист истинный, до гробовой дрожи над статьей и газетой, эту дрожь ни на что не променяю. Приходится уже год грузчиком подрабатывать: у меня жена и ребенок, а халявная жизнь, типа Александера, недостижима. Выгоняли меня из редакций не за "разоблачения" (плюю я на ихние политики, коррупции и скандалы), а по эстетическим разногласиям.
Стали вот нервы ржаветь, лопаться, хрустеть и скрипеть. Здесь тишина лечебная, солнышко у реки помогает рубцам и язвам затягиваться. В ту первую на месте ночь мне лес еще на нервы действовал. Я был готов, при дневном свете предусмотрительно все кушары и стволы вокруг нашей опушки изучил, прикидывал, как ночью луна и тени и ветер исказят пространство, где призраки встанут, где вопли и шепоты начнутся.
Когда представленье началось, в бликах от костра затанцевали духи, лешаки жеманно кланялись у берез, две русалки и шумный водяной веселились на пристани (будто бы водяной влезал в нашу лодку, срывался, она терлась о камни, а мужик тихо и матерно ругался). Я сдерживал нечисть своим неверием, скоро она устала, лишь иногда проверяя бдительность.
Трещали еловые дрова, постреливая угольками. Ветер прихотливо менял направление каждые десять-пятнадцать минут. Я вслед за дымом переползал на новое место, волоча с собой и спальник. Хорошо, что кожа постепенно теряла чувствительность, наверно, уже так вздулась, что отошла от нервных окончаний, лишь равномерно полыхала. На озере шумно разносились хлопки о воду, иногда с брызгами и гулкими пузырями, это играла крупная рыба. Те щуки, о которых мечтал Александер. И в эту ночь из-за них я не решился искупаться. Наслышан про щучью дурость, могут вцепиться во что угодно. И озеро непонятное, неизведанное толком, заметить успел, пока плыли: самый верх воды прогрет, а копни глубже — как лед она. Вдобавок, черная, торфяная, даже зачерпнешь в горсть — тусклая зелень, и темные крошки оседают. Я в таких озерах еще не купался, а ночью с ее плотными комариными коврами, ее шишигами и муторью и бессветностью, совсем было стремно. Как-нибудь позже, в другую ночь...
Я, конечно, много передумал в первую бессонную ночь, мог бы и поделиться, да сама история напрямую касается лишь Александера. Так вот, Александер храпел напропалую, раза два затихал, бубнил во сне и ворочался, потом заново с иной модуляцией храпел. Я сидел, ворошил костер и завидовал.
Вставал он утром с огромным трудом, мрачный, лишь опосля нескольких матерных кличей от меня высовывал из палатки голову, проверяя, ждет ли его заваренный чайник.
Я в одиночестве выпил два котелка чая за ночь — хоть этим похвастал перед ним. Сам умылся, Александер по утрам уклонялся омовений, берег по какой-то теории тепло организма. Я сервировал кухонный булыжник, быстро позавтракали. Затем Александер возился со снастями, я достал из кустов весла, залез в лодку, вставил их в уключины. Принял от него снасти (банка с червями, хлеб, удилища, спиннинги, множество пакетиков и коробочек с лесками, крючками, блеснами, запасными катушками, грузилами, чем-то еще), была у нас и капроновая сеть для поимки живцов, банка из мелкой проволоки для улова, ее можно было буксировать на шнуре, бутыль с холодным чаем для меня. Мы не с первой попытки отчалили, днище за ночь всосало в песок, лодку пришлось раскачивать с бока на бог, а потом двинулись в путь.
Он сказал, что пока на озере держится туман, покурсируем вдоль берегов, покидаем спиннинги на щук. Сам же и закидывал, я неспешно греб, стараясь держаться в десяти метрах от прибрежных тростниковых зарослей. Щуки ничем себя не обнаружили. Иногда Александер комментировал ихние, невидимые мне действия:
— Вот-вот, пробует, ленивая какая-то. Видать, жратвы в это лето много было. У них сейчас должен быть самый жор, перед спячкой хотят веса набрать побольше. Должны хватать, понимаешь, но у нас не хватают. Или блесна неудачная? Сейчас чуток схватила и тут же выплюнула, зараза...
С периодичной частотой (раз из семи) блесна цеплялась, будучи неточно закинутой, в камышах; а блеском считался ее хлопок о воду в метре от кромки зарослей, на чистой воде. Щука сидит в камышах, в засаде, по краям кормится рыбешка, и блесна провоцирует хищника на атаку. Иногда были зацепы и на чистой воде, тут уж Александер долго решал, рыба ли схватила, корягу ли волочет по дну.
Один я заблудился бы через час, безнадежно. Здесь Вуокса представляет из себя нескончаемую сеть соединенных больших и малых озер, сообщающихся и широкими проливами, и незаметными, заросшими камышом протоками (чтобы пробиться через такие, лодку предварительно разгоняли на чистой воде, а потом сушить весла и ждать, сядешь ли днищем на мель, или продерешься, подминая стебли и вспугивая кучи птичек). Были и каменистые пороги, быстрины, где вода кружила и притапливала суденышко, желая шмякнуть о бурые мшистые камни, торчащие тут, или запихнуть в непроходимые чащи. Густо торчали и острова, большие и маленькие, лысые и поросшие лесом, некоторые представляли из себя скалы, живописно украшенные осинами и разводами мхов на обрывистых гранитных склонах.
Цвели в заводях водяные растения с толстыми плотными листьями, длинными, тянущимися от дна стеблями — они легко рвались под веслами и наматывались в пучки. Ни я, ни Александер не смогли решить, кувшинки ли это, но не лотосы. Цветы были крупные, ярко-желтые, блестели каплями воды и пахли легкой сладостью. Без разницы, все одно как лотосы, вместо лотосов. Показалось над дальним берегом солнце. Оно вместе с налетевшим ветерком распотрошило и выжгло залежи серого тумана, до того лениво накатывавшего полосами на берега с центра озера. И сомкнутые крупные бутоны кувшинок прямо на глазах раскрывались, стали гораздо еще больше, ярче (внутри они были почти розовые). Я решил, что привезу жене этих цветов, да потом не до того было, сейчас даже обидно.
Погода баловала и в то утро, и во все последующее время. Ни одного дождя, трогательные тихие заморозки по утрам. Если бы не редкие пушинки инея на сухой траве, даже я бы морозца не замечал — хоть и все ночи я просидел у костра, блуждая средь дымов и мыслей и памяти, услужливо тасовавшей передо мной картинки событий, лиц, печалей. Отвлекая от врагов мелких. Но тем временем грести мне надоело — оказалось, что Александеру его спиннинг тоже приелся. Он выбрал по тайным приметам хорошую заводь-лужайку, густо поросшую кувшинками и белесыми водорослями (так что горя я хлебнул, теряя одну снасть за другой — пока рыбачили, лужайку наполовину выкосил). Мы закинули удочки (на крючки насаживали мормыша, по три-четыре червячка сразу). Только-только успокоился мой поплавок, я полез за сигаретой, думая, что последует тот самый лелеемый покой, а у Александера уже жрут, он удочкой шамк — и рыбешка летит по воздуху к нам в морды, блестя чешуей, дергаясь изо всех сил. И у меня уже клюет.
Каждую вторую-третью рыбину я оставлял в озере, то неправильно подсекая, то теряя при транспортировке: удилище длинное, рыбка на конце лески раскачивается, да еще сама скользкая, пока ее в лодку опустишь, время нужно, сноровка нужна. Откуда они у меня? Я не расстраивался, смеялся виновато, потому что напарника моя неуклюжесть раздражала. Но тут уж он хозяин-барин, на рыбалке, поэтому я сносил все придирки и замечания, которых, по прошествии времени, становилось больше, кстати говоря.
Надергали быстро внушительную кучу пищи, как их там, окуньков, подлещиков, карасей, я не разбираю и не запоминаю. Часа два дрейфовали по этой заводи, затем перебрались к проливу, там поудили с меньшим результатом, потому что Александер то и дело переходил на спиннинг. Потом он потерял блесну, мне удить наскучило, жарко стало. И поплыли в лагерь.
Я быстро, поспешно вытаскивал из лодки вещи, затем схватил спальник, отбежал на травку, где посуше и солнышко, и, уже падая и засыпая, пробубнил:
— Обед сваришь, тогда и буди...
Комаров на солнышке почти не было, муравьев, ползающих под одеждой и в волосах, не чувствовал, спал как мертвый часа четыре. Когда очнулся, время было послеобеденное, Александер тоже дрых без задних ног в вонючей палатке, а за обед и не думал браться. Так что сел я опять разводить костер, чистить картошку, кипятить воду в котелке и размышлять, как мне его перехитрить хоть раз. Или не надо усердствовать?
Все-таки при детальном сравнении жизнь у него еще паскуднее моей, так пусть здесь кайфует на равных, или даже в привилегированном положении. Мне хозяйственные заботы не в тягость, а в радость, на самом-то деле.
И еще одна думка заботила. Я знаю Александера года четыре, нет, даже пять с хвостиком: когда он назначил сам себя живописцем, я очень удивился и не поверил. Но с тех пор он рисует и рисует, вспышками, сериями по три-четыре картины, а потом снова на месяц-другой погружается в оцепенение, или укутывается в дрязги, или пьет, наркотой пробавляется. Те первые картинки мне не нравятся до сих пор, затем что-то начало цеплять, но ему не сознался — хмуро смотрел, неопределенно мычал и отходил в сторону. Пока наконец не проговорился — попросил одну картинку мне оставить. Он и оставил.
Вижу, он что-то понял, чему-то научился, раз у него вдруг вышло стать художником. Я гораздо дольше его рою землю в одном и том же месте, пишу и пишу рассказы, повести, даже недавно роман отгрохал, и занимаюсь всем этим лет с пятнадцати. Но меня туда пока не пустили, сам понимаю. Его жена, она и женой стала ему потому, что тоже, как и я, догадалась: его туда впустили, посчитали уже достойным; она лишь мало поразмыслила, стоило ли ей в качество жены переходить. А почему не подругой-нищенкой побыть? Пока не надоест. Женой служить тяжелее, обременительней.
У него идет работа, у него получается, только какого-то выхода, отклика Александер не имеет. И он устал, ожесточился, как и я, хотя мне проще, я устал чисто физически, а он морально. Хотел, чтобы поделился со мной. Например, про музыку, про ее придумывание я совсем не понимаю. Про живопись, особенно маслом и кистями (а он как раз маслом любит рисовать, на худой конец восковыми мелками) я еще надеюсь как-нибудь догадаться: остро воняет скипидаром и канифолью, с беличьих волосков валится на серый холст жирная клякса сурика или ультрамарина или еще чего, и уже пузырится, бугрится, вихрится многоцветье калейдоскопа; и из него начинает проступать портрет или вещь или чьи-то ветки, цветы, тени... Спрашивать Александера сразу побаивался, высматривал, где хранит он свои кисти, бумагу, холст, да ни фига не нашел — стал ждать, когда сам обронит замечание о натюрморте, о пейзаже. Не ронял.
Для обеда я коптил над угольями рыбу: пронзал ее, еще живую, прутьями сквозь глаза, подвесил и иногда ворошил свои шампуры. А на угли для дыма кидал можжевельника и мяты, дух шел от рыбы умопомрачительный. Он вылез из палатки, как водится, мрачный и взъерошенный со сна, просветлел при виде приготовлений к еде, кивнул, достал из рюкзака детектив и прилег у костра почитать. Надо сказать, что день, с которого продолжаю рассказ о рыбалке, выдался тусклым и холодноватым: дождь там и не осмелился пойти, но тучи выглядели грозно. Я невзначай спросил:
— Саша, скажи, должно быть, здорово натюрморты с рыбой рисовать!
— Это чего, мне рисовать, а тебе жрать? — сразу стал подвох искать. — Если хочешь, рисуй. Я ее есть буду.
Но я вижу, Александер не дергается, безмятежность прохлады и близость огня и пищи его расслабили, да и клев с утра выдался неплохой. Нет, думаю, от меня не скроешь ничего.
— Ты совсем не будешь здесь рисовать? — спрашиваю.
— Ну, ты тоже статей не строчишь.
— Мне некуда строчить. Все отказались меня печатать, я же тебе рассказывал.
— Ага, и мне ведь некуда рисовать, — с деланным горем Александер закручинился вниз головой.
— Нет, не понимаю, — озадачился уже я. — Статьи кратковременны, им жизнь короткая отпущена. Не напечатали вовремя — выбрасывай. Картина в принципе вне времени, в будущее идет, и там проверяет себя на стойкость, на качество.
Тут он отбросил книгу, вызверился оскалом желтых от прокуренности зубов:
— Кто тебе это сказал? Опять романтические вопли. Есть ты и есть я, есть наш труд. Если я не получаю отдачи, существую в пустоте, как мне продолжать? Как тебе продолжать? Какое, нахрен, будущее? Может быть, где-то витает такой вневременной отсчет, да не нам о нем лясы точить. Надо говорить о нашей жизни и нашем деле. Ты представь, что мебельщик заканчивает комод, и заявляет, что да, пока не годен, но через два века комод оценят. Лично я уверен, что после меня все закончится. И рисую для живущих здесь и сейчас, целясь именно в них.
— У меня не так, — попробовал я ему объяснить.
— Сколько у тебя папок с написанным? Десять? Больше? У меня в любом месте, где поселяюсь, стены в десять минут увешаны моей мазней. Я же все с собой ношу, должен все видеть, чтобы знать: я еще существую. А через час начинается тошнота от обилия и от затхлости своего же самовыражения. Раздать их? Унизительно. Суешь кому попало самое важное, как ломти хлеба, точнее, как бессмысленные для них подарки. Откуда узнать, тем ли даешь? Те это руки, глаза, стены? Мерзко, трудно это, жить посредством нащупывания чужих рук. А щуки заждались. Отчаливаем!
Удили спокойно, примерно через час Александер вытащил на блесну (ярко-желтую, с жужжащим маленьким пропеллером) щуренка. Как объяснил, еще не взрослого, но уже не "карандаша", — таких худых и длинных щурят с злобным хитрым взглядом я уже видел. А этот был поупитанней, на два килограмма, не меньше. Когда Александер затащил его в лодку, щуренок выплюнул блесну и давай биться — пасть несоразмерно огромная, зубы как бракованные шила, во все стороны торчат, я лязг слышал! Тот орет: бей по голове! А чем? Александер в спиннинге, леске и блесне запутался, я отпрыгиваю от злыдня этого зеленого, с белым брюхом, все норовит мои босые ноги вкусить. Так я его уже веслом пару раз вдарил (попутно едва не убив напарника) — тело добычи слегка изуродовав, а потом бросился из лодки в воду, чтобы живым остаться. Оказалось, напрасно освежился, щуренок уже битья не выдержал и помер.
Дальше рыбалили менее интересно: пара "карандашей", затем подлещиков в заводи дергали. Я следил за Александером: начатый мной разговор об искусстве все еще тлел в нем, что-то там теплилось и попырхивало, будоражило приятеля. У него дергались губы, хмуро поглядывал на меня, видимо, слегка досадовал, что втянули его в разговоры, и решал — достоин ли я продолжения темы...
Я тоже смотрел на него, изучая диковинный экземпляр человечества: низенький, худенький, любой корм тут не в коня, хотя уничтожает при случае гигантские запасы пищи (я вот на обед две рыбешки съел, а он больше десятка, то есть всех остальных! — тщательно обсасывая и разбирая по косточкам каждую, и все это с неимоверной скоростью и ловкостью.) Я любил его жену. Она на тот момент оставила Александера, уехав жить к своей подруге — которую за это Александер ненавидел истово и яростно. Пока было неясно, окончателен ли их разрыв. Эх, поменяться бы нам с Александером семьями: но то, увы, тусклая шуточка.
Александер последнее время подозревал меня в чем-то, бросал иногда шуточки с кривой ухмылкой, но я реагировал каменным лицом и гримасами отвращения к его пошлым проискам: знать не знаю, ведать не ведаю, слышать о твоей жене не желаю, как ты ни бубни.
И вечером, после еды, когда я мыл посуду песком у бухточки, Александер сам заварил первый котелок с чаем! Я еще сходил за дровами, чтобы до утра мне хватило. Хоть чай в его исполнении оказался чифиром; горький, черно-бурый, даже какой-то вонью и плесенью отдавал. Человек к нормальному чаю и к нормальной жизни не желает иметь отношения, так я его заварку понял. Но пил, за день-то намаялся, а чифир будоражил и радовал. И он, напившись, не ушел в палатку, налил воды для второго чая, разлегся на свежей хвое и спальнике поудобней, закурил. Я возликовал — поговорим!
— Ну, цепляет чаек? — спросил меня Александер.
— Я чифирю редко, — сказал я ему, — кайфа в этом не нахожу. Так что второй помягче сделай, будь так любезен.
— Будь спок, — кивнул добрый Александер. — Ты только о последних месяцах не рассказал. Давай, я слушаю, за что из журналистов выперли, как грузчиком работается. Мне послушать хочется.
Я заговорил. А остановиться не смог.
Я говорил без пауз и перекуров часа два — с девяти до одиннадцати вечера! И только начав хрипеть, вдруг понял, усек, что со мной, с языком, с мозгами неладное творится. Настал момент, когда мой мозг выпустил крылышки, поднялся из головы в воздух, отмахиваясь при том от назойливых комаров (но укусов я все это время не чувствовал!), и мозг взглянул на тело, мое громоздкое тело журналиста и грузчика, с опухшими, в расчесах, руками и рожей, с хлопающим в быстром судорожном ритме ртом. Мозг разобрал торопливые фразы и ужаснулся:
— А она, кассирша та, денег не выдает! Толстая, раздевается при всех в конторке, прямо волны желтого жира дряблого, белье у нее в жире тонет. И вены под кожей вязанками переплетены... Мне говорят — малец, сегодня ты за всей с ней отдувайся. И меня в вагончик к ней запихивают, а сами садятся, потому что деньги и им только после выдаст, такая стерва. Кошмар все это. Что я плету, ты можешь сказать?
— Про свои тяжелые перипетии плетешь, — задумчиво ответствовал он.
— Чем ты меня напоил?
— Да, вспомнил старое. Пошел в кусты днем, и на грибочки наткнулся. Подумал, нам не повредит. Ты же говорил, пора отрешиться, изолироваться, помнишь? Я решил тебе и себе помочь отрешиться. Если бы мухомор на тебя плохо подействовал, ты бы сразу блеванул, так что все нормально. С мухами не в родстве!
— И долго я буду кейфовать? — спросил я тупо, ощущая себя бараном в лаборатории Калигари.
— До утра, если учитывать остаточные явления.
И так потекла самая длинная, самая мучительная и последняя ночь рыбалки. Из дальнейшего ни нити, ни интриги я не могу выхватить, всплывают в голове отдельные фразы, монологи, ощущения и сцены. Поэтому и отдаю, как вижу, невнятно и отрывочно:
— Вдруг меня осенило однажды. Я представил, что моя жена умерла, и я сижу у гроба. От ужаса перед этим, вполне ведь возможным событием, меня затрясло. Что я буду делать тогда? Самое хорошее — умереть. Если, в свою очередь, предположить мою смерть, что тогда будет делать она? Потерянная, перепуганная, совсем одна. Одна перед таинством, над бездной. А в Бога не верим, сам взлечу к небу, а на кого ее брошу, не знаю. Никто не примет, не оживит, не поможет сделать следующие шаги вперед. Не могу знать и помнить об этом. Не хочу, чтобы так могло случиться. Не важно, завтра или через пятьдесят лет, я не позволю ей остаться одной. А мужики всегда мрут первыми.
— На бред похоже, — нехотя отреагировал я.
Или отреагировал он? Кто говорил? Наверное, он. На меня не похоже — лично я придерживаюсь концепции, что моя жена бессмертна, особенно по отношению ко мне. В общем, если он говорил, то он и продолжил:
— Точно, бред. Добрендил, паря, до того, что решил расстаться. Я люблю и знаю, какая она хорошая. Этого не отнять и не забыть, навсегда останется со мной. А если кто-то после меня узнает также, какая она ласковая и добрая, я, конечно, взбешусь. На время. И затем затихну, смирюсь: ну и правильно, и здорово, нам тлеть, им цвесть.
— Ну и ну. А если...
Я чуть не подавился вылезшей уже, наспех обратно проглоченной фразой: А если, оставшись одна, она не сможет, не захочет заново влюбляться, жить с кем-то. И окажется брошенной навсегда! — я этого не мог вслух произнести, потому что мне нравился его план, и мне казалось, что я сумею поддержать, принять его жену в дни пустоты и горечи.
— Для женщины в детях спасение, а не в новом мужике. И спасут, и смыслом станут, — сказал я после размышлений.
— Да. А от голода куры спасут, разводите курей, — тоже помолчав, неожиданно ответил Александер. — Это тоже из практических советов.
— Дочь может заменить мать, оставит черты и дух ее на земле, даже иногда в улучшенном варианте. Если папа не подкачал. Я в своей дочке жену вижу, уже сейчас. Сын заменит отца. Делайте детей, и без ахиней.
— Я мало интересуюсь биологией, — туманно объяснился Александер.
— Извиняюсь заранее за прозу и практицизм, но разговор лишь об ответственности. Ты страшишься своих обязательств перед другими людьми.
— Обязательство не умереть? Это любопытно, что-то в этом есть. Так оно и лучше. Спать или похлебаем еще?
— Я не могу лечь спать, у меня каждый нейрон в голове выдает кучу ярчайшей дезинформации, — сказал я, ощупывая голову руками: проверял, летает еще или покоится в черепе мой мозг.
Когда-то стало душно, ползали под ворохом одежд на теле струйки пота. Шерстинки, намокая, чесали и кололи кожу. Чернелая ночь с плеском невидимого близкого озера, с густым писком комаров стала вдруг похожа на полдень в пыльной безводной пустыне — из-за духоты. Я ничего не понимал, видел только иногда, какие-то куски полянки, угли, опрокинутая чашка. С трудом встал, пошел, качаясь на затекших ногах, к воде. Встал на колени, на мокрый песок, зачерпнул в горсть воды напиться и освежиться. В воде, в маленьком прудике на моей ладони что-то мерцало, шевелилось и копошилось. Я вспомнил, что меня страшила сырая вода Вуоксы из-за холерного вибриона, сфокусировал глаза и увидел: это они, зародыши погибели в виде существ с выпученными лягушачьими глазенками и многоножными тельцами, плавали и шныряли в воде. Не стал я их пить. Вернулся к очагу, зачерпнул кружкой из котелка остывший отвар грибной, выпил, ужасаясь влаге, спускающейся вниз по пищеводу. Но тут вернулся из блужданий по лесу Александер, и я, как ни странно, немного успокоился.
— Меня не взяли, — буркнул он, валясь с ног на свой спальник.
— Куда не взяли?
— А-а, там шел, рельсы близко загудели, я подошел. И как раз поезд идет на Суоми. Чего-то захотел сесть в него и уехать. Побродяжничать у них, поработать. Но не взяли. Я им и кричал, машинистам, и в пояс кланялся. Мимо проскочили, да уехали.
— А как же я? — меня возмутила его безалаберность. — Я озер не знаю, сам обратно не выгребу, я тут пропаду один! Ты смог бы меня бросить?
— Не смог, как видишь.
Наверно, в нем еще были остатки совести, раз он ретиво начал раздувать угли, набросал сучьев и сора, разжигая костер заново.
— Ну что, скажи теперь, и ты с ними? Ты же заодно с ними, ты тоже радуешься, наверняка. Ждешь, когда совсем шлепнусь, об асфальт всмятку. О чем ту хотел говорить? Об искусстве, о своих проблемах? А я?
Он достал из котомки огромный мухомор и принялся жрать его, как пирожное, огромными кусками, запивая горячим отваром. Сырой мухомор с бледноголубой ножкой в кокетливой юбчонке, шляпка светилась даже в темноте ярким серо-зеленым цветом; жрал с причмокиванием, как если бы привычно и аппетитно наслаждался прелестями проститутки.
По шляпке мухомора ползла улитка, Александер ее не видел. Я не захотел их предупреждать. Когда во рту его затрещала ракушка с бедной слизистой букашкой, я хотел захихикать, — нервы подвели, я заплакал, беспомощно прикрывшись пальцами левой руки. В правой руке зачем-то держал большую алюминиевую ложку.
Тревожила внезапная идея: а если это ловушка, если этот мавр решил не терпеть мое двурушничество, мой дозор, и заманил меня, чтобы здесь бросить? Я стал часто ходить проверять, на месте ли лодка, не собрал ли он уже вещи. Александер достал откуда-то большой кусок ватмана, низко склонился над ним у костра, улавливая свет пламени, и что-то рисовал.
Мы пили нескончаемый горький отвар. Мало ели, меня потянуло тошнить. Я отрезал кусок от жирного щуренка, обмазал кусок жиром, плюхнул на тарелочку, из которой Александер пил чай, поставил ее на угли, таким образом за полчаса изготовил себе закусь.
Шли на огонь какие-то существа из леса, садились безмолвно, ничего не разъясняя: иногда перебрасывались с ним фразами, а на мои вопросы не отвечали. Я обиделся, стал хватать горящие головешки и бросать в них — пока всех не разогнал, не успокоился.
Сколько это длилось? Мы впадали в спячку, а потом просыпались, и какое-то горькое похмелье заставляло пить дальше. Может быть, один день или два дня я проспал. Очнулся трезвым — и одна из ночей близилась к концу. Шипел над слегка дымящим холмиком очага сырой рассветный воздух. Очнулся из-за руки, она лежала на белом пепле хвои (истлела подо мной подстилка еловая) и неприятно пахла паленым мясом. Боли не чувствовал. Я встал, осмотрел ожог: припудренные, с приставшими угольками и травинками пятна мяса проглядывали из-под дырявой кожи. Тогда я решил идти к воде.
Бросил в лодку весла и раскачал ее, за ночь или за все это время днище присосалось к печку. Освободил, оттолкнул корму, вскочил в лодку и сел за весла. Густейший туман застил все: палатку на берегу с торчащими башмаками Александера, камни и высокий тростник у бухточки, весь берег с покачиваемыми верхами сосен; тревоги не было, ни капли. Рука почему-то не болела, думаю, мной еще правили мухоморы.
А скоро ладони натерлись рукоятью весел, вспотели, и начал гореть ожог. Лодка блуждала в тумане, иногда откуда-то проступали близкие шорохи тростника, журчала вода в протоках, все чаще и сильнее билась на поверхности воды игривая рыба. Я лежал на мокрых досках дна лодки, опустив раненую руку за борт, в холодную воду озера.
И остро захотел уплыть, один и подальше, но не решался — с опасной раной, не зная пути назад в Приозерск, без пищи и снастей, все ведь осталось на берегу, в лагере. Вокруг лодки кругами шныряла большая щука, ее плавники терлись о доски бортов, иногда она тыкалась носом в мою отмокавшую руку за бортом. Озадачивалась и не вцеплялась. В руке потихоньку фурчало и жгло, будто пацаны там баловались с магнием. Заухал лунь, низко пролетел надо мной, тяжело махая крылами, наверно, нажрался, как и я, ночью свежей рыбы, теперь спешил спать, спать, в покое и без боли и без сомнений.
По второму кругу собрался отчаливать. Не помню, болела ли в этот раз рука (вообще же, надо указать, что на следующий день она сама собой, без следа, исцелилась — видимо, это божественный знак был?).
Гораздо спокойней, обдуманно собирал в дорогу вещи и провизию. Отлил в баночку чуток отвара, если понадобится в путевых лишениях для лечения или бодрости. Александер храпел в палатке, моя возня его потревожила. Трели несколько раз сбивались, фальшивили, наконец он вылез из вонючего нутра обвисшей палатки.
— Эй, куда намылился? — спросил вяло, почесывая задницу
— Больше не могу с тобой рыбачить, — сказал я и, не выдержав собственной тактичности, зло добавил: — С психом таким! Сам травись, так нет, и меня втянул. У меня голова какая-то свернутая, будто там жуки поселились.
— Ладно, как хочешь, — сказал он. — Я все равно здесь не меньше двух недель буду сидеть. За меня не опасайся, доберусь обратно. А рыбачить и с берега можно. Плыви, приветики раздай там, кому сочтешь...
— Никому нахрен твои приветы не нужны, — объяснил я. — Достал ты всех, я последний крепился. Ша, хана, не хочу больше.
Александер стоял, как-то безвольно опустив руки, не шевелясь и не глядя в мою сторону. Я уже вскарабкался в лодку, оттолкнулся от камней, спустил на воду весла; и тоже замер, подыскивая на прощание хоть что-то доброе.
— Я же ночью тебя нарисовал! — вспомнил и обрадовался Александер. — Хочешь, принесу? Даже сам не помню, чего вышло.
— Не хочу, — сказал я. — То был не я, не меня и рисовал.
— Не ты? Как раз мухомор сырой взялся жевать, я сразу за карандаш схватился, чтобы такой момент запечатлеть. И не надувай губы, сочтемся еще, обязательно.
— Да, обязательно сочтемся, — кивнул и я ему. — Прощевай!
— Там в рюкзаке компас, плыви все время строго на юго-запад, тогда точно выберешься, — крикнул на прощание Александер.
Совет был дельным, и я втайне обрадовался, что впервые он смог сказать мне что-то стоящее. Но почему так поздно? Почему по такому поводу, как мой отъезд? Я, может быть, ждал от него даров, ждал какого-нибудь учения, важных и умных слов, а он мне в чай мухомор подсунул. Этот, извиняюсь, паскудный мальчик, вечный пионер по имени Саша.
Я пробивался через тростники, через глухие заросшие озера, через болота и кисельные топи к Приозерску четверо суток. Два раза ночевал в лодке, потому что к берегу было не подойти — топи и камыши не пускали. Я сумел пробиться через все эти мучения и испытания, и времени как раз хватило, чтобы простить ему его выходку.
Вспоминал всех, кто пострадал от Александера: их было много, десятки вполне достойных людей. Это, быть может, иногда заурядные, иногда менее талантливые люди; а чаще те, кто не проявлял интереса к его картинкам — такие рано или поздно списывались им со счетов (а люди, бывало, вообще были равнодушны к любой живописи). Все, кто посмел уйти от "творческого", на самом деле чисто тусовочного образа жизни, кто начал свое дело или устроился на хорошо оплачиваемую должность. Кто завел нормальные, с родителями и детьми, семьи, — и такие тоже отсекались им от его пространства. Никто ведь особенно не возражал, испытывая объяснимое облегчение: скверный характер, злой и несдержанный язык, странные выходки без повода вынуждали друзей и знакомых Александера постоянно пребывать в нервном напряжении. Случай со мной на рыбалке — типичнейшее подтверждение вышесказанному.
Только мне не до конца понятно: кто ел сырой мухомор? Он или я? По логике событий такое способен съесть только он. И еще: смутно я вспоминал по ночам на обратном пути, когда клубились и пели надо мной в лодке стаи гнуса и комаром, что очень много накипевшего высказал я пьяным от отвара; говорил долго, горячо, требуя мне верить, вроде даже вспоминать стыдно, а воспроизвести уж никак не могу. Ощущение, словно я попался на уловку, словно и он хотел услышать, что там во мне сидит, грызет, как мое злорадство и червоточины зависти (зависти? почему зависти? наверное, из-за жены) вырабатывают свой изнурительный яд. А высказался — и чрезвычайно полегчало, хоть объявляй отвар серого мухомора идеальным рецептом для людей, мучающихся от невысказанного. Не держу я больше зла на Александера, вот такой парадокс. Честно говорю, — не потому что он уже не жилец, именно в то лето, после рыбалки я перестал на него злиться. Потому что разорвал отношения?
Так ведь не скажу, что разорвал окончательно. Я с ним еще раз виделся; услыхал, что он сидит в "бомжатнике" на Балтийской, зашел и спросил: сохранил ли он рисунок с меня, сделанный ночью на рыбалке? Он сказал, что тогда сохранил, а теперь, в последние дни, потерял. И сам был этим огорчен. Представьте, последним сделанным им рисунком был мой портрет, и этот портрет утерян. Не везет мне, однако.
Получается, что неза |